Правообладателям!
Представленный фрагмент книги размещен по согласованию с распространителем легального контента ООО "ЛитРес" (не более 20% исходного текста). Если вы считаете, что размещение материала нарушает ваши или чьи-либо права, то сообщите нам об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?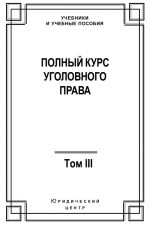
Текст бизнес-книги "Полный курс уголовного права. Том III. Преступления в сфере экономики"
Автор книги: Коллектив авторов
Раздел: Юриспруденция и право, Наука и Образование
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Для признания того или иного имущества чужим для виновного не требуется, чтобы оно принадлежало на праве собственности тому лицу, у которого изымается. Имущество, вверенное лицу на определенном правовом основании (например, для целей его ответственного хранения или перевозки), также остается для него чужим, несмотря на то, что он наделяется в отношении данного имущества определенными правомочиями. Незаконное удержание у себя или израсходование такого имущества образует присвоение или растрату. Поэтому представляется некорректным разъяснение Верховного Суда РФ о том, что предметом хищения является «чужое, то есть не находящееся в собственности или законном владении виновного, имущество».[106]106
См.: п.6 постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 декабря 1980 г. «О практике применения судами РСФСР законодательства при рассмотрении дел о хищениях на транспорте».
[Закрыть]
Некоторые авторы допускают возможность совершения преступных действий в отношении своего имущества, приводя в качестве примера акты завладения собственным, но переданным в чужое владение имуществом с целью потребовать возмещения за якобы причиненный ущерб.[107]107
Пинаев А. А. Уголовно-правовая борьба с хищениями. Харьков, 1975. С. 51; Тишкевич И. С. Уголовно-правовая охрана личной собственности граждан. Минск, 1988. С. 9.
[Закрыть] Однако такого рода случаи не нарушают правила о невозможности похищения собственного имущества, поскольку изъятие такового собственником в рассматриваемых случаях является лишь приготовлением к завладению материальными средствами, призванными возместить причиненный мнимой утратой ущерб. Следовательно, в качестве предмета хищения здесь выступает все же не свое, а изымаемое под видом компенсации имущество другого лица, т. е. опять-таки чужое. Изъятие же своего имущества служит лишь для создания видимости законности выплаты компенсации.[108]108
Как правильно пишет Б. С. Никифоров, «если субъект, сдавший имущество на хранение другому лицу, затем тайно похищает это имущество или получает его посредством обмана, чтобы предъявить к хранителю претензию о возмещении причиненного собственнику “ущерба”, он должен быть привлечен к уголовной ответственности за приготовление к мошенничеству». А далее он заключает: «Нетрудно, однако, видеть, что в этом случае посягательство имеет своим предметом не имущество, принадлежащее виновному, а имущество, принадлежащее бывшему хранителю» (Никифоров Б. С. Уголовно-правовая охрана личной собственности в СССР. М., 1954. С. 38).
[Закрыть]
Для признания имущества чужим достаточно, чтобы виновный не имел ни действительного, ни предполагаемого права на обращение с ним как со своим собственным. Поэтому хищение образует изъятие имущества не только у его собственника или титульного владельца, но и у незаконного обладателя, например у лица, ранее похитившего это имущество.
Особую значимость приобретает вопрос о «чужом» и «своем» имуществе в отношении многосубъектной собственности, являющейся объектом гражданско-правовых отношений между сособственниками.
Хищение имущества сособственников, совершенное третьим лицом, ничем (кроме числа потерпевших) не отличается от хищения имущества единоличного собственника, тогда как юридическая оценка незаконного распоряжения совместным имуществом одним из сособственников в ущерб другому не столь однозначна. Во многом она зависит от вида общей собственности – долевой или совместной, которые закрепляет п. 2 ст. 244 ГК.
В совместной собственности доли ее участников заранее не определены, существуя лишь в потенции, реализуемой при разделе общей собственности или выделе из нее. Бездолевой характер данного вида собственности позволяет более категорично отрицать возможность посягательства на нее одним из сособственников. Как в прежней, так и в нынешней литературе практически единодушно утверждается, что предметом рассматриваемых преступлений не может быть имущество, принадлежащее лицу на праве совместной собственности.[109]109
Пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. «О некоторых вопросах применения уголовного законодательства об ответственности за преступления против собственности».
[Закрыть] В ГК закреплено лишь два вида такой собственности – собственность супругов и членов крестьянского (фермерского) хозяйства.
Действующее российское законодательство не содержит специальных положений о пределах уголовной ответственности за имущественные правонарушения в семье.[110]110
В свое время попытки утвердить некоторые начала диспозитивности в данной сфере предпринимались со стороны Верховного Суда СССР, который в п. 15 постановления Пленума от 3 декабря 1976 г. «О практике применения судами законодательства по делам о преступлениях несовершеннолетних и о вовлечении их в преступную и иную антиобщественную деятельность» разъяснил: «Не должны применяться меры уголовного наказания к несовершеннолетним за кражи у родителей или других совместно проживающих с ними членов семьи, если сами потерпевшие не обращались в соответствующие органы с просьбой о привлечении подростков к уголовной ответственности» (БВС СССР. 1977. № 1). Однако в сменившем его 14 февраля 2000 г. постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» аналогичного положения не содержится (см.: Российская газета. 2000. 14 марта).
[Закрыть] Решающим критерием допустимости ответственности за внутрисемейные хищения продолжает оставаться правовой режим имущественных отношений, регулируемых семейным, а в необходимых случаях и гражданским законодательством (ст. 4 Семейного кодекса). Отсюда необходимо выяснять, является ли имущество, ставшее предметом нарушения, совместной собственностью супругов или индивидуальной собственностью одного из них, и в зависимости от этого решать вопрос о правовых средствах разрешения конфликта.
Установленный в ряде норм СК режим раздельной собственности допускает уголовную ответственность за имущественные правонарушения в семье, поскольку имущество, принадлежащее одному из супругов, является чужим для другого.
На раздельном режиме основаны также имущественные отношения между родителями и детьми, поскольку, согласно ст. 60 СК, ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, а родители – на имущество ребенка (например, полученное им в дар или в порядке наследования, а также приобретенное на его средства). Из этого следует, что самовольное изъятие родительского имущества, равно как и детского, при известных условиях может составить признаки хищения.
Ситуация изменится, как только родители и дети перейдут на режим общей собственности, что допускается п. 5 ст. 60 СК. Да и супругам, заключившим брачный договор о режиме долевой или раздельной собственности, также ничто не препятствует в любое время расторгнуть его или изменить, установив режим совместной собственности (ст. 34 СК). Соответственно незаконное распоряжение общим имуществом одним из них станет ненаказуемым, так как предметом правонарушения становится совместное (т. е. собственное), а не чужое имущество.
Завершая характеристику предмета хищения, нельзя не отметить, что особые проблемы с его определением возникают при анализе мошенничества, которое содержит указание не только на хищение имущества, но и на приобретение права на него. Поэтому практически во всех литературных источниках, которые удалось обозреть, в качестве еще одного предмета мошенничества называется право на имущество. Предлагается даже изменить редакцию ч. 1 ст. 159 УК таким образом, чтобы она в полной мере отвечала этим взглядам, а именно: «Хищение чужого имущества или права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием».[111]111
См., напр.: Владимиров В. А. Квалификация похищений личного имущества. М., 1974. С. 28; Уголовное право. Особенная часть. Учебник / Под ред. А. И. Рарога. М., 1996. С. 113; Новый комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А. С. Михлина, И. В. Шмарова. М., 1996. С. 242; Хабаров А. В. Преступления против собственности: влияние гражданско-правового регулирования Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 1999. С. 17.
[Закрыть]
Юридическая некорректность данной формулировки очевидна. Ясно, что право собственности ни в субъективном его смысле (как юридически обеспеченная мера возможного поведения собственника по отношению к принадлежащему ему имуществу), ни тем более в объективном (как система правовых норм, регулирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению данным имуществом) похищено быть не может. В результате хищения потерпевший лишается не права собственности, а фактической возможности использовать имеющиеся у него правомочия в отношении этого имущества вследствие его изъятия. Поэтому право на имущество не может быть отнесено к числу предметов хищения.
Настаивая на том, что предметом всех хищений могут быть исключительно вещи, причем не только в тех статьях, где говорится об имуществе, но и в тех, где говорится о праве на имущество, считаю возможным обосновать этот тезис тем, что в качестве своего объекта хищения имеют вещные отношения, в которых отношения собственности занимают центральное место, хотя вещные права не ограничиваются только правом собственности. Тезис же о несводимости вещных отношений к отношениям собственности и необходимости в связи с этим различать две разновидности отношений по владению, пользованию и распоряжению вещественными объектами позволяет заключить следующее: любое хищение нарушает отношения собственности, поскольку оно представляет собой незаконное и безвозмездное изъятие чужого имущества, но не любое незаконное и безвозмездное изъятие чужого имущества нарушает отношения собственности, коль скоро оно может быть совершено у лица, владеющего данным имуществом в объеме правомочий субъекта ограниченного вещного права.
Иными словами, в тех случаях, когда похититель ставит себя на место собственника, претендуя на всю полноту его власти, он нарушает отношения собственности, безотносительно к тому, у кого он изымает имущество (у самого ли собственника или иного владеющего им лица). Когда же лицо мошенническим или характерным для вымогательства образом ставит себя только на место субъекта ограниченного вещного права, не претендуя на ту меру власти, которая закрепляется за собственником, отношения собственности ущерба не терпят, поскольку собственником данной вещи остается все тот же «маячивший за спиной» носителя ограниченного вещного права субъект, но отношения ограниченного вещного права, безусловно, от этого страдают. Поэтому в первом случае можно говорить об изъятии имущества из фонда собственника, т. е. о его похищении, предполагающем замену подлинного собственника псевдособственником и потому нарушающем отношения собственности, а во втором – только о приобретении виновным ограниченного вещного права на данное имущество, нарушающем вещные отношения в более широком смысле этого слова, но все же не затрагивающем статус собственника и не ставящем под сомнение отношения собственности как таковые. Думается, на этом и основано различие между понятиями «хищение чужого имущества» и «приобретение права на чужое имущество».
Однако в судебной практике данное право не всегда получает уголовно-правовую защиту. Так, Махмудов был признан виновным в том, что путем мошенничества приобрел право на жилую площадь Авдеевых. Указав на ошибочность его осуждения за хищение, Верховный Суд РФ мотивировал свое решение тем, что Авдеевы не являлись ни собственниками, ни владельцами квартиры, которая находилась в ведении и в собственности департамента муниципального жилья правительства Москвы. Поэтому смена нанимателей квартиры не причинила ущерба собственнику имущества, тогда как ответственность за хищение, одним из видов которого является мошенничество, наступает только при причинении ущерба собственнику или владельцу имущества. Таким образом, между Махмудовым и Авдеевыми имелись гражданско-правовые отношения, регулируемые жилищным законодательством.[112]112
Скляров С. Уголовная ответственность за хищение недвижимого имущества. С. 52, 53.
[Закрыть]
Но если право нанимателя жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде квалифицировать в качестве ограниченного вещного (а это представляется вполне обоснованным), то оно должно подлежать такой же защите, как и права собственника на приватизированное им жилое помещение.[113]113
Этот вывод был сделан до принятия 29 декабря 2004 г. нового Жилищного кодекса (см.: Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 224). Последний устанавливает, что по договору социального найма предоставляются жилые помещения, принадлежащие на праве собственности Российской Федерации ее субъектам, а также находящиеся в собственности муниципальных образований (ст. 49). При этом пользование жилым помещением по договору социального найма предполагает и владение этим помещением (п.1ст. 60). Более того, хотя среди правомочий нанимателя в данной статье не названо право распоряжения занимаемым помещением, однако, как следует из других норм, регулирующих социальный наем, наниматель вправе осуществлять и ряд распорядительных правомочий, например, вселять в помещение иных лиц, сдавать его в поднаем, разрешать проживание временных жильцов, осуществлять обмен или замену занимаемого жилого помещения. Вышеприведенные отличительные признаки договора социального найма позволяют считать граждан-нанимателей субъектами ограниченного вещного права. Следовательно, завладение их жильем путем каких-либо махинаций (допустим, при обмене) может квалифицироваться как приобретение права на чужое имущество путем обмана, т. е. хищение в форме мошенничества.
[Закрыть]
Суммируя изложенное, можно сказать, что имущество как предмет хищения – это вещи, деньги, ценные бумаги и другие обладающие стоимостью предметы материального мира, по поводу которых существуют отношения собственности или иные вещные права.
С объективной стороны хищение представляет собой противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
Общественно опасное деяние посягательств на вещные отношения выражается в изъятии и (или) обращении чужого имущества в пользу виновного или других лиц либо в приобретении права на чужое имущество.
Говоря о формах незаконного перемещения имущества от собственника к несобственнику, нельзя не заметить, что в одних случаях оно осуществляется посредством примитивного захвата чужой вещи, откровенно попирающего права собственника и не нуждающегося в каком-либо правовом обосновании. Здесь главное – обеспечить себе хозяйственное господство над вещью, т. е. завладеть ею. Отсутствие же претензий со стороны собственника или других лиц обеспечивают анонимность похитителя или неизвестность его местонахождения и презумпция законности фактического владения – предположение о том, что тот, у кого вещь находится, имеет право на владение ею, пока не доказано обратное. Такого рода процесс воздействия на предмет, типичный для кражи, грабежа и разбоя (если нападение завершается завладением предметом), и называется изъятием, трактуемым в узкофизическом смысле – как противоправное извлечение (исключение, удаление, выведение) имущества из владения собственника с одновременным переводом его в фактическое незаконное обладание похитителя или других лиц.
Другой процесс воздействия на предмет, который типичен для присвоения и растраты, совершаемых в отношении вверенного имущества и потому не требующих его физического изъятия, коль скоро оно и так уже находится во владении виновного, называется обращением чужого имущества в свою пользу или в пользу других лиц.
Следовательно, изъятием можно считать не только физическое извлечение и удаление имущества из чьего-либо обладания, но и юридическое обособление имущества, находящегося в обладании виновного на законных основаниях. Например, когда заведующий складом незаконно списывает хранящиеся на складе вещи, изменяется не местоположение их в пространстве, а отношение к ним виновного, который юридически правомерное владение данными вещами трансформирует в противоправное обладание. Такой переход от правомерного владения к неправомерному иногда называют «формальным изъятием».[114]114
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации по рассмотрению уголовных дел в порядке надзора от 20 октября 1997 г. // БВС РФ. 1997. № 11.
[Закрыть] Несмотря на то, что фактически вещи продолжают находиться на тех же стеллажах, юридически их уже не существует для собственника, ибо они числятся как изъятые с места их нахождения и уничтоженные по акту за непригодностью. Следовательно, в присвоении вверенного имущества также можно усмотреть его изъятие у собственника. Отражая внешнюю сторону процесса обретения власти над чужим имуществом при неизменности его местоположения, такого рода «формальные» действия отражают и содержательное существо изъятия – фактическую смену собственника.
Особенно нагляден формально-юридический характер изъятия при мошенническом завладении товарораспорядительными документами (коносаментами, грузовыми накладными, складскими свидетельствами и т. п.), передача которых приравнивается, согласно п. 3 ст. 224 ГК, к передаче вещи, что влечет и переход права собственности на нее, безотносительно к тому, что сами товары продолжают находиться на складе.
Подобное же изъятие (именно изъятие, а не приобретение права на чужое имущество) характерно для мошеннического завладения объектами недвижимости, выведение которых из имущественного фонда собственника невозможно без «юридического сопровождения» – соответствующего оформления перехода права собственности. В отличие от «физического» изъятия, характерного для кражи, грабежа и разбоя, а также от «формального» изъятия, свойственного присвоению и растрате, такую форму можно назвать «юридическим» изъятием, при котором прежний собственник может даже остаться фактическим владельцем имущества (например, продолжать жить в квартире), тогда как юридически «права» владения, пользования и распоряжения данным имуществом уже принадлежат преступнику.
Следовательно, хищение как изъятие чужого имущества не включает в себя с необходимостью фактическое завладение им, юридически опосредствующее презумпцию законности владения. Изъятие имущества может произойти и без его перемещения в пространстве с его постоянного или временного местонахождения (как это происходит при хищении недвижимости).
С этой точки зрения, выделение в понятии хищения «обращения» чужого имущества в пользу виновного или других лиц не столь уж необходимо, так как невозможно обратить чужое имущество в чью-либо пользу, не изъяв его из фонда собственника. Поэтому основой, характеризующей хищение с объективной стороны, в какой бы конкретной форме оно ни осуществлялось, является именно «изъятие», которое не только отражает внешний процесс противоправного воздействия на предмет преступления, но и указывает на механизм причинения вреда его собственнику, поскольку изъятие всегда связано с незаконным переходом имущества от собственника к несобственнику.
Криминалистическое же «приобретение права на чужое имущество» корреспондирует с цивилистическим «правом на чужие вещи», каковым по определению являются ограниченные вещные права. Завладение такого рода «чужими вещами» также предполагает их изъятие, но не у собственника, а у владельца, и не физическое, а «юридическое».
Поскольку для вменения хищения необходимо установить, что преступник завладел чужим имуществом, которое к моменту его изъятия находилось в собственности или во владении другого лица (т. е. уже вошло во владение последнего и еще не выбыло из него), важное значение для квалификации приобретает определение оснований возникновения и прекращения права собственности, а также моментов поступления данного имущества в собственность или владение соответствующего лица и его выбытия.
Признаками изъятия чужого имущества при его хищении являются противоправность и безвозмездность.
Противоправность изъятия, прежде всего, означает, что оно осуществляется способом, прямо запрещенным уголовным законом (объективная противоправность), при отсутствии которого содеянное может квалифицироваться по иным статьям УК или вовсе не составлять преступления. Так, не является хищением завладение чужим имуществом при дозволении закона, например в случаях крайней необходимости, исполнения приказа или наличия других обстоятельств, исключающих противоправность содеянного.
Далее, противоправность заключается в отсутствии у виновного какого-либо права на изымаемое имущество (субъективная противоправность). Когда же такое право есть (например, собственник изымает свое имущество у другого лица), когда имеются фактические основания для получения имущества, а нарушается лишь установленный порядок осуществления этого права, такие действия могут быть расценены как самоуправство.[115]115
Новое уголовное право России. Особенная часть. Учебное пособие. М., 1996. С. 129.
[Закрыть]
Наконец, противоправность хищения состоит в нарушении свободы собственника или титульного владельца распоряжаться находящимся у них имуществом, ибо его изъятие осуществляется помимо или против их воли. Отсюда следует, что не является хищением завладение чужим имуществом с согласия его собственника. Однако противоправным будет изъятие имущества не только у ребенка, душевнобольного, а также у иного не способного выразить свою волю лица, но и у лица, выразившего свое «согласие» на изменение отношения к имуществу под влиянием обмана или насилия, коль скоро такое согласие не имеет ничего общего с подлинной волей потерпевшего.
Безвозмездность изъятия наличествует в тех случаях, когда оно производится без соразмерного возмещения стоимости изымаемого деньгами (т. е. бесплатно) либо без предоставления эквивалента в виде труда, равноценного имущества, а также с символическим либо неадекватным возмещением.
Стало быть, получение денежных средств, хотя и по фиктивным или неправильно оформленным документам, но за фактически выполненную работу, не является хищением, поскольку незаконное завладение имуществом не связано в данном случае с причинением имущественного ущерба, тем более, что виновный компенсирует его трудовыми затратами.
Но если оплата труда осуществляется не только с учетом его количества и качества, но и включает в себя различные надбавки (за выслугу лет, продолжительность работы в районах Крайнего Севера, классность, ученую степень и т. п.), то умышленное незаконное получение подобных надбавок лицами, не имеющими на них права, квалифицируется не только как подделка или использование поддельного документа, но и как хищение. Однако размер последнего составляет не вся сумма полученных денежных средств, а только та их часть, которая равна надбавке к окладу или разнице между обычной и повышенной заработной платой.
В этом плане не вполне обоснованным представляется вывод Военной коллегии Верховного Суда РФ о том, что не является хищением получение денежного довольствия незаконно назначенным на капитанскую должность прапорщиком Сбитневым, который добросовестно исполнял свои обязанности.[116]116
БВС РФ. 1995. № 4. С. 7–8.
[Закрыть]
Не вдаваясь в вопрос, может ли прапорщик российской армии с успехом справляться с должностными обязанностями капитана, заметим лишь, что Военная коллегия почему-то обделила вниманием вопрос о том, а как же быть с денежной суммой, полученной прапорщиком в виде надбавки за капитанское звание. Ведь эта надбавка не зависит напрямую от успешного выполнения должностных обязанностей.[117]117
Обзор судебной практики военных судов гарнизонов и объединений за 1999 год.
[Закрыть]
Об отсутствии признака безвозмездности, исключающем обвинение в хищении, можно говорить, во-первых, при предоставлении соответствующего возмещения в надлежащее время (как правило, одновременно с изъятием или непосредственно после изъятия), а не «задним числом» (скажем, после того, как правоохранительным органам стало известно о факте получения имущества), а во-вторых, при адекватности возмещения. В связи с этим важное значение приобретает определение форм, сроков и эквивалентности предоставляемого возмещения, которые устанавливаются на основе анализа конкретных обстоятельств дела, с учетом в необходимых случаях мнения потерпевшего.[118]118
См., напр.: Практика прокурорского надзора. Сб. документов. М., 1988. С. 224, 315.
[Закрыть]
Так, С. – директор коммерческой организации «Кама с утра», занимающийся поставками тонизирующего напитка «Кама» для борьбы с похмельем, получив «предоплату» от торговой фирмы «Рассолия», не смог выполнить к установленному в договоре сроку взятые на себя обязательства, потому что грузовик, перевозивший напиток, сгорел по пути в Москву, что было достоверно установлено следствием. В итоге по заявлению руководства «Рассолии» в отношении С. было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Однако он взял кредит в банке и вернул полученные деньги. Суд учел это и дело прекратил.
Данное решение обосновывается тем, что для признания завладения имуществом хищением это завладение должно характеризоваться как заведомо (с точки зрения берущего кредит) безвозмездное. Поскольку С., получив «предоплату» за товар, затем вернул эти средства, а не сам товар, и не доказано его желание не возвращать полученные средства, то, несмотря на нарушение условий договора, говорить о безвозмездном завладении им чужим имуществом в виде денежных средств не приходится.[119]119
Яни П. С. Мошенничество и иные преступления против собственности: уголовная ответственность. С. 69.
[Закрыть]
Не столь однозначна оценка ситуаций, в которых происходит частичное возмещение стоимости изъятого. В свое время Верховный Суд СССР указал, что изъятие вверенного имущества путем замены его на менее ценное должно квалифицироваться как хищение «в размере стоимости изъятого имущества».[120]120
Допускаю, что в российской армии найдется прапорщик, который, изготовив диплом кандидата наук, может с таким же успехом, как Сбитнев, исполнять обязанности доцента в высшем военном учебном заведении, ноэтонедает оснований для дополнительных выплат за ученую степень кандидата наук. Ведь за этим не стоит его труд по написанию и защите кандидатской диссертации.
[Закрыть] Верховный Суд РФ остается верен этой позиции, разъясняя, что при установлении размера, в котором совершены мошенничество, присвоение или растрата, надлежит иметь в виду, что хищение имущества с одновременной заменой его менее ценным квалифицируется как «хищение в размере стоимости изъятого имущества».[121]121
См.:п.25 постановления Пленума Верховного СудаРФот27декабря 2007 г. «Осудебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
[Закрыть]
Данное положение воспроизводится и в некоторых современных учебных пособиях, вольно или невольно ставя под сомнение позицию законодателя, включившего признак безвозмездности в понятие хищения. На самом же деле при наличии соответствующих доказательств стоимость похищенного должна определяться разницей между реальной стоимостью присвоенного имущества и суммой его компенсации. Таким образом, частичное возмещение стоимости изъятого не исключает состава хищения, но может быть учтено при его квалификации и определении размера причиненного ущерба. Такая возможность, как представляется, во многом зависит от формы возмещения и понимания того, что замену имущества на менее ценное, осуществляемую одновременно с его изъятием, не следует путать с последующим частичным возмещением ущерба, которое само по себе не свидетельствует об отсутствии умысла на хищение в размере стоимости изъятого.
Материальный ущерб является непременным элементом объективной стороны всех хищений, составы которых сформулированы как материальные, за исключением разбоя.
Существо хищения (как деяния, выражающегося в изъятии имущества) предопределяет, что в содержание наступившего от этого ущерба включаются только реальные имущественные потери, понесенные собственником. Убытки иного характера (например, в виде упущенных доходов от использования имущества) в содержание ущерба от хищения не входят.
При хищении, каким бы способом оно ни было совершено, всегда происходит причинение реального урона собственнику в виде уменьшения объема его наличного имущества и, соответственно, незаконное обогащение преступника в размере стоимости изъятого имущества. Реальный ущерб на одной стороне и имущественная прибыль – на другой – непременные признаки деяния, связанные с безвозмездным переходом имущества от собственника к несобственнику.
В сущности, также должен решаться вопрос и относительно убытков, причиняемых субъекту ограниченного вещного права, с той лишь разницей, что уменьшение объема того имущества, которым он владеет, не сказывается на размере имущественного фонда собственника. Отсюда в качестве преступления против собственности может рассматриваться и незаконное безвозмездное перемещение имущества из хозяйственного ведения или оперативного управления одного функционирующего на началах имущественной обособленности юридического лица в ведение или управление другого, хотя и не связанное с нарушением права собственности, но посягающее на вещные права титульного владельца.
Таким образом, с объективной стороны хищение представляет собой противоправное безвозмездное изъятие чужого имущества из фонда собственника, сопряженное с его обращением в пользу виновного или других лиц, причинившим ущерб собственнику, а приобретение права на чужое имущество – противоправное безвозмездное изъятие данного имущества из владения субъекта ограниченного вещного права, сопряженное с его обращением в пользу виновного или других лиц, причинившим ущерб владельцу этого имущества.
Материальный характер составов хищения предполагает установление не только факта ущерба, но и правильное исчисление его размера, который определяется общественно значимой ценностью изъятого имущества. Последняя непосредственно определяется его номинальной денежной стоимостью (если речь идет о деньгах как особом товаре, выражающем цену любых других видов имущества) либо стоимостью в денежном выражении, хотя в отдельных случаях могут учитываться и другие показатели, например, историческая или культурная ценность, которая, впрочем, также имеет свой денежный эквивалент.
Несмотря на то, что УК не ограничивает ответственность за хищение каким-либо пределом, сопоставление его с КоАП позволяет заключить, что суммой, минимально необходимой для уголовной ответственности за кражу, мошенничество, присвоение и растрату, является 100 рублей.[122]122
Пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 г.(в ред. постановления от 27 ноября 1981 г.) «О судебной практике по делам о хищениях государственного и общественного имущества» (БВС СССР. 1982. № 1. С. 12).
[Закрыть] На квалифицированные виды указанных хищений, а также на грабеж и разбой этот критерий не распространяется.
Значение действительной стоимости похищенного объясняется также необходимостью установления степени общественной опасности криминального хищения. Чем больше стоимость изъятого имущества, выраженная в денежной сумме, чем больший материальный ущерб причиняется, тем выше степень опасности совершенного преступления. Во многих составах хищений это обстоятельство приобретает квалификационное значение в силу того, что размер причиненного материального ущерба предусмотрен в качестве квалифицирующего и особо квалифицирующего признака.
В связи с этим хищения подразделяются на: мелкое (ст. 7.27 КоАП), в значительных размерах или причинившее значительный ущерб гражданину (ч. 2 ст. 158–160 УК), крупное (ч. 3 ст. 158–160, п. «д» ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 162), особо крупное (ч. 4 ст. 158–160, п. «б» ч. 3 ст. 161) и хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК). Что касается разбоя, то по причине усеченности его состава речь идет не о реальном, а о потенциальном причинении материального ущерба, в силу чего выделяется разбой, совершенный в целях завладения имуществом в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 162 УК).
Вменение материального ущерба от хищения предполагает установление причинной связи между изъятием имущества и наступившими вредными последствиями – образованием имущественной недостачи в фондах собственника, за счет которой и происходит приращение фонда расхитителя. Для того чтобы вменить хищение, необходимо установить, что эта недостача является следствием именно изъятия имущества, имея в виду, что не всякая утрата материальных ценностей является следствием их изъятия.
Способы изъятия исчерпывающим образом определены в УК: кража, мошенничество, присвоение, растрата, грабеж, разбой (ст. 158–162). Только этими способами может быть совершено и хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164).
К средствам совершения хищений можно отнести различного рода документы, специальную одежду, маски, приспособления, облегчающие совершение преступления, и т. д. Таковыми могут быть фальшивые бланки, необходимые для мошеннического обмана, снотворное для усыпления жертвы, лестница для проникновения в хранилище, транспортные средства, необходимые для вывоза похищенного, и многое другое.
К орудиям совершения хищений относятся любые предметы, которые используются для непосредственного осуществления задуманного преступления: оружие, предметы, используемые в качестве оружия, отмычки и прочие орудия взлома, яды и др.
От объективной стороны состава преступления зависит момент окончания преступления.
Сопряженность изъятия чужого имущества с обращением последнего в пользу виновного или других лиц предопределяет и логику определения момента окончания хищения. Если признаком объективной стороны хищения является причинение ущерба собственнику или иному владельцу имущества, оно считается оконченным с момента изъятия имущества и получения виновным реальной возможности пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению.[123]123
См.: ст. 7.27 КоАП вред. Федерального закона от 22 июня 2007 г. «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части изменения способа выражения денежного взыскания, налагаемого за административное правонарушение» (СЗ РФ. 2007. № 26. Ст. 3089).
[Закрыть]
Вопрос о том, с какого момента у похитителя появляется реальная возможность пользоваться или распоряжаться изъятым имуществом, – вопрос факта, решаемый с учетом обстоятельств конкретного дела. Вот несколько примеров, иллюстрирующих ошибки в его решении.
Е. признан виновным в том, что открыто завладел норковой шапкой Д., сорвав ее с головы потерпевшей, и осужден за грабеж. Между тем по делу установлено, что Е., сорвав с головы Д. шапку, стал убегать. Однако потерпевшая и проходивший мимо мужчина тут же догнали его, и Е. вынужден был выбросить шапку, которая возвращена потерпевшей.
Таким образом, умысел виновного на завладение чужим имуществом не был доведен до конца по не зависящим от его воли обстоятельствам. При таком положении содеянное содержит состав неоконченного преступления, и его надлежит квалифицировать как покушение на грабеж. Стало быть, если лицо после грабежа сразу было задержано и не имело возможности распорядиться имуществом, преступление не может быть признано оконченным.[124]124
БВС РФ. 1996. № 5.
[Закрыть]
По другому делу кассационная инстанция, переквалифицировав действия Скосырева, осужденного за оконченное хищение, на покушение, указала, что в момент завладения деньгами в магазине он был замечен гражданами, которые задержали его при выходе из магазина. Следовательно, Скосырев не мог реально распорядится изъятыми в магазине деньгами.[125]125
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ по рассмотрению уголовных дел в кассационном и надзорном порядке в 1993 году.
[Закрыть]
Более определенные критерии на этот счет выработаны в отношении хищений с охраняемых объектов и территорий (складов, баз, предприятий), связанных с системой проходных, пропусков и т. п. Решение вопроса о моменте окончания хищения в данном случае зависит от характера изымаемого имущества и намерений виновного. Если предмет таков, что им можно распорядиться (в частности, употребить) без выноса с территории, и виновный имел такое намерение, то хищение считается оконченным с момента завладения этим предметом и появления возможности распорядиться им на месте; в остальных случаях – с момента выноса имущества за пределы охраняемой территории.
Правообладателям!
Представленный фрагмент книги размещен по согласованию с распространителем легального контента ООО "ЛитРес" (не более 20% исходного текста). Если вы считаете, что размещение материала нарушает ваши или чьи-либо права, то сообщите нам об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?







