Правообладателям!
Представленный фрагмент книги размещен по согласованию с распространителем легального контента ООО "ЛитРес" (не более 20% исходного текста). Если вы считаете, что размещение материала нарушает ваши или чьи-либо права, то сообщите нам об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?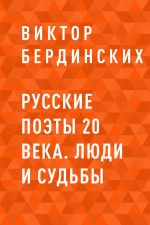
Текст бизнес-книги "Русские поэты 20 века. Люди и судьбы"
Автор книги: Виктор Бердинских
Раздел: О бизнесе популярно, Бизнес-книги
Возрастные ограничения: +12
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
И каждый раз – на пороге нового этапа, новой книги – поэт пытается максимально освободиться от прежнего опыта, устаревшего багажа, начать все заново: он даже ощущает себя другим человеком, желая «быть голым на голой земле». Замах его обновлений, попыток ставить перед собой, по возможности, неразрешимые задачи – потрясает. Причем горечь провалов вдохновляет его не меньше, чем радость удач…
Пятое.
Ассоциативно-эмоциональная лирика поэта каждому новому поколению читателей несет что-то свое и по-разному непонятное. Его образы приоткрываются не полностью, а лишь с края. Эта поэзия и притягивает своей «непонятностью». Здесь в каждой лексеме есть несколько смысловых измерений. Отсюда – напряжение слова, его огромная выразительная энергия. Вся словесная конструкция удачных стихов Пастернака гудит от этого напряжения, переливается яркими красками разрядов и вспыхивающих ассоциаций, диссонансов… Звуковые метафоры порой близки к каламбуру. При этом историзм поэта не отдает пылью прошлых эпох – он свеж, как парное молоко.
Шестое.
Естественно, «ранний» Пастернак (до 1930 года) – это один стиль и одна поэтика; период «промежутка» (1930-е годы) – уже другой стиль (вызревание «нового поэта»). «Поздний» Пастернак – это «третья» поэзия, с ее великими достижениями – отстоявшейся силы, мудрости, прозрачности, но и – увы! – с падением скорости и утратой неожиданной свежести слова – по сравнению с шедеврами молодости: строка уже не движется, как конвейер, постоянно подставляя под удар и созвучия, и новые части предложения…
Но остается главное – единство личности поэта. Оно и скрепляет в нерасторжимое целое все эти эпохи, держит их «на стрежневом плаву искусства». Вдобавок, вдохновение его – это крылья, хотя промежутки между приступами вдохновения длились годами. В письме от 11 февраля 1923 года он писал: «Есть какой-то мне одному свойственный тон. Как мало я дорожил им, пока был им беснуем!. Вне этого тона я не способен пользоваться даже тем небогатым кругом скромнейших ощущений, которые доступны любой современной посредственности, чаще всего – мещанской… На днях после пятилетнего отсутствия у меня в зрачках, кажется, опять забегали эти зайчики».
Было бы, по меньшей мере, смешно, если бы зрелый поэт творил по калькам (пусть и удачным) восторженного юноши. Эволюция неизбежна. Однако и все-таки не читатель в ХХ веке постепенно приближался к поэзии Пастернака, образовываясь и развиваясь в рамках всеобщего эстетического ликбеза, а пастернаковская поэтическая вселенная притягивала к себе этого читателя – магнетизмом свой внутренней энергии и духовной мощи.
Да и сам поэт в личных беседах, в том числе и со сверхутонченными интеллектуалами, обладал способностью заставлять разум визави метаться, трудиться, мчаться из последних сил – так, что привычная картина мира иногда полностью менялась: становилась то светлой и радостной, то жуткой и пугающей. Иногда он говорил – словно прыгал в высоту. Вероятно, это также – одно из проявлений гениальности настоящего поэта…
Его великая заслуга в том, что он пытался извлечь из движущейся, текучей жизни – то, что видел каждый. Извлечь – и перенести в поэзию! А затем заставить нас воспринять все это снова (остранение как прием). «Пастернак – это возврат к первичной свежести мира!» (Вяч.Вс.Иванов)
Седьмое.
Как уже говорилось, искренний «государственник» 1920-х – начала 1930-х годов после «большого террора» уступил место в душе поэта христианскому гуманисту и убежденному оппозиционеру тоталитарному режиму.
Столетье с лишним – не вчера,
А сила прежняя в соблазне
В надежде славы и добра
Глядеть на вещи без боязни…
И тот же тотчас же тупик…
1931
Вместе с тем поэту удалось выстроить личные отношения с жестоким диктатором, затронуть в нем какую-то «человеческую струнку». Возможно, определенную роль в этом сыграли и пастернаковская приписка к соболезнованию литераторов в связи с гибелью жены вождя; и мужественные письма Сталину – с просьбами об освобождении ряда знакомых (например, родных А.Ахматовой), на что в то время отваживались отнюдь не многие в писательской среде; и откровенный телефонный разговор с «кремлевским горцем» (инициированный, кстати, последним) – по поводу О.Мандельштама… Во всяком случае, Пастернак сумел отстоять некое подобие личной независимости (хотя, разумеется, весьма относительной и предельно ограниченной).
Вероятно, в начале 1930-х годов для Пастернака в личности Сталина воплощались время, история и будущее. Поэтому, желая личной встречи, он просто хотел вблизи поглядеть на такое живое дышащее чудо. Но объект любви – не желал быть объектом любопытства. И тем не менее – отношение вождя к поэту достаточно личностно.
Вполне допустимо предположить, что от «большого террора» его спасла и устоявшаяся репутация «слегка сумасшедшего поэта-чудака».
Впрочем, для самого Пастернака все это имело лишь второстепенное значение. На склоне лет гораздо существеннее для него – поиски путей более полной самореализации, стремление «подняться с земли и оглядеться». По велению судьбы и творческой интуиции эти поиски и устремления нашли свое воплощение в «новой прозе» – на страницах лирико-эпического романа…
Восьмое.
Проза поэта – неотъемлемая часть его жизни и творчества. Он не мог развиваться по-иному. Конечно, среди его прозаических текстов есть не только достижения, но и вещи откровенно малоудачные. Наиболее интересны – «Охранная грамота» и, несомненно, эпистолярное наследие.
Особая тема – роман «Доктор Живаго». Это – самое дискуссионное творение Пастернака. Обращаясь к этому роману, нельзя упускать из вида, что для его автора непререкаемым образцом историзма и эпичности являлось творчество Л.Толстого (многие произведения которого, заметим, иллюстрировал Л. Пастернак, бывший с классиком в весьма близких отношениях и написавший несколько его портретов, в том числе – посмертный). Б.Пастернак никакой критики в адрес своего кумира не принимал: Россия и Толстой были в его глазах едины…
Но времена-то изменились – произошел разлом эпох. И толстовская проза оказалась невозможно архаичной для второй половины ХХ века. Да и сам Пастернак считал (во время работы над «Доктором Живаго»), что он пишет нечто «качественно новое» (по сравнению с прежней прозой) – светлое, гармоничное, классически чистое и простое.
Он еще в 1935 году откровенно говорит: «Мы с потерей Чехова утеряли искусство прозы… Очень трудно мне писать настоящую прозаическую вещь, ибо кроме личной поэтической традиции здесь примешивается давление очень сильной поэтической традиции 20 века на всю нашу литературу». Жизненный и творческий напор его в конце 1930-х годов рухнул. Он раздражен советской литературной средой, состоящей из людей «неталантливых, творчески слабосильных, с ничтожными аппетитами, даже не подозревающими о вкусе бессмертия и удовлетворяющимися бутербродами, зисами, эмками и тартинками с двумя орденами. И это биографии! И для этого люди рождались и жили». Начавшаяся в ноябре – декабре 1945 года работа над романом принесла Б.Л. Чувство полного внутреннего освобождения. Его книга – протест против всех современных ему советских книг о революции и Гражданской войне.
Как уже отмечалось, роман Пастернака – это его попытка «преодолеть поэтическое косноязычие». В лирике он – весь во власти ощущений. Его поэзия, сливаясь с повседневностью, раздвигала границы видимого мира. И в этом – ее волшебство. Но и в прозе он – многому научился у Андрея Белого, не самого простого из прозаиков 20 века.
В романе же он выразил острую свою потребность в анализе окружающего и пережитого, в панорамном взгляде на историю страны – эпохи великих трагедий шекспировского размаха. Основная идея и сквозная тема романа – история Отечества периода революций и Гражданской войны глазами русского интеллигента. В чем, в чем – а в глобальности и широте замысла ему отказать нельзя.
Собраться мыслью во времена тотального распада личности невероятно трудно. И здесь определяющую мотивизационную и мобилизующую роль сыграли обстоятельства и обстановка военной поры (1941 – 45 годов), остановившей безумие будней, вернувшей в социум какие-то (и весьма существенные) элементы здравого смысла…
В октябре 1958 года Б.Пастернак говорил:
«Стихи – чепуха! Зачем люди возятся с моими стихами, не понимаю. Единственное стоящее, что я сделал в жизни – это роман. И это неправда, будто роман люди ценят только из-за политики. Ложь. Книгу читают и любят».
Допустимо (и вполне объяснимо), что сам поэт по-родительски переоценивал значение своего последнего прозаического детища.
Но так же безусловно, что роман этот – замечателен как чисто художественное явление. И место его в отечественной литературе – незыблемо. Роман Б.Л. – это погоня за утраченным временем, попытка найти свое место в стремительно сдвинутом потоке дней и понять смысл движения. Поэта мучила потребность в анализе, в отдалении, в перспективе. В центре романа биография поэта, параллельная собственной биографии Б.Л., но в неблагополучном ключе. Он искал свое второе русло. Что было бы, если бы?
Сам доктор Живаго умирает от инфаркт в 1929 году, поскольку душу и нервы нельзя без конца насиловать безнаказанно: «Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувствуешь: распинаться перед тем, чего не любишь, радоваться тому, что приносит тебе несчастье». Поколению Живаго 19 век принес в наследство невероятное богатство – духовный опыт благородного гуманизма 19 века. Первая половина 20 века это богатство развеяла по ветру, стерла в порошок. Требовалось очнуться от опыта катастроф. И Пастернак хотел новым языком в своей лирической эпопее возродить старое теплое органичное восприятие жизни. Чисто человеческий голос жизни в каждом человеке…
Проницательный читатель И.Берлин так вспоминал свое первое впечатление от романа: «В отличие от многих читателей, как в России, так и за рубежом, я нашел роман «Доктор Живаго» гениальным. Эта книга открыла мне целую область человеческих переживаний, особый мир, хоть и населенный одним-единственным жителем. А какой язык, полный неповторимой силы и воображения!..».
В романе, действительно, сильнее всего живописное (пластическое) и музыкальное (композиционное) начало. Русская революция у него – главное событие века, экспериментальная проверка социальных теорий прошлого. Герой романа для него должен был представлять что-то среднее между автором, Блоком, Есениным и Маяковским. Кажущееся безволие героя, то есть его творческий талант – это неспособность к насилию над жизнью, отсутствие стремления к власти.
Как метко писал Е.Б.Пастернак про Живаго: «Юрий Андреевич подчиняется любви как высшему началу, для него это стремление сделать человека счастливым, ничего ему не навязывая, расплачиваясь за это ценою собственных потерь и лишений, неизбежных и обусловленных жизнью. (…) Его останавливает перспектива насилья над жизнью, которое независимо от цели ведет к извращению и гибели».
Есть, бесспорно, рациональное зерно и в критике романа. Хотя порой эта критика откровенно субъективна: вроде утверждения А.Ахматовой о том, что автор «провалился в себя», что «оттого и роман плох, кроме пейзажей».
Эту же мысль, правда, в менее резкой форме, развивала Л.Чуковская, общепризнанно тонкий критик. По ее мнению, в романе есть гениально прописанные пейзажи и стихи, «которые детям в школе следует учить наизусть. Многие отдельные страницы ослепительны: 1905 год, просторечие… Но особенно картонен сам доктор Живаго. И язык автора иногда скороговорочностью доведен до безобразия. Но это язык поэта!..».
Подводя итоги пастернаковской судьбе, А.Ахматова в июне 1960 года размышляла:
«На днях я из-за Пастернака поссорилась с одним своим другом. Вообразите, он вздумал утверждать, будто Борис Леонидович был мученик, преследуемый, гонимый и прочее. Какой вздор! Борис Леонидович был человек необыкновенно счастливый. Во-первых, по натуре, от рождения счастливый; он так страстно любил природу, столько счастья в ней находил! Во-вторых, как же это его преследовали? Когда? Какие гонения? Всё и всегда печатали, а если не здесь – то за границей. Если же что-нибудь не печаталось ни там, ни тут – он давал стихи двум-трем поклонникам, и всё мгновенно расходилось по рукам. Деньги были всегда. Сыновья, слава Богу, благополучны… Если сравнивать с другими судьбами: Мандельштам, Квитко, Перец Маркиш, Цветаева – да кого ни возьми, судьба у Пастернака счастливейшая». (18)
Позволим себе сопроводить эти размышления некоторыми (необходимыми и существенными) оговорками и уточнениями.
Конечно, Б.Пастернак был «счастлив от природы», но чужую боль он чувствовал и переживал как свою.
Да, «деньги у него были» (во всяком случае – в последние десятилетия жизни), но из них, заработанных, в основном, тяжкой переводческой каторгой, он щедро поддерживал многих нуждающихся и друзей (и не в последнюю очередь – ту же А.Ахматову).
Трагедия России ХХ века стала его личной трагедией. Отсюда – неизбежность его физически преждевременной гибели в столкновении с деспотическим государством. Но моральная победа в этой схватке осталась все-таки на его стороне, что стало знаковым событием послесталинской эпохи. После него растоптанная и деморализованная четырьмя десятилетиями насилия и террора русская интеллигенция – пусть в лице пока лишь единичных своих представителей – начала подниматься с колен.
При этом Борис Леонидович Пастернак возвышается над необъятным пространством поэзии ХХ века как одна из самых исполинских и ярких ее фигур:
Лист смородины груб и матерчат.
В доме хохот и стекла звенят.
В нем шинкуют, и квасят, и перчат,
И гвоздики кладут в маринад.
Лес забрасывает, как насмешник,
Этот шум на обрывистый склон,
Где сгоревший на солнце орешник
Словно жаром костра опален.
Здесь дорога спускается в балку,
Здесь и высохших старых коряг,
И лоскутицы осени жалко,
Все сметающей в этот овраг.
И того, что вселенная проще,
Чем иной полагает хитрец,
Что как в воду опущена роща,
Что приходит всему свой конец…
Бабье лето
1946
Приложение
Борис Пастернак
О поэзии и искусстве
(Из эпистолярного наследия)
1. Из письма Б.С. Кузину (7 марта 1948 года).
Вы должны знать, что стихов как самоцели я не любил и не признавал никогда. Положение, которое утверждало бы их ценность, так органически чуждо мне, что я даже Шекспиру и Пушкину не простил бы голого стихотворчества, если бы, кроме этого, они не были гениальными людьми, прозаиками, лицами огромных биографий и пр. и пр.
Тогда, и только при этом положении, то есть только при безмерности этого, ближе неопределимого безусловного мира, становится простительной и получает условная музыкальная речь в рифму, как только в приложении к телеграфу, несущему жизнь и смерть в обиходе, получают оправдание палочки и точечки лаконического телеграфного языка…
Во всех же прочих случаях я не понимаю увлечения этой бессмыслицей и в этом отношении радикальнее Маяковского, кот. в этом пункте покладистый эстет в сравнении со мной…
2. Из письма О.И. Александровой (20 ноября 1949 года).
Живу я незаслуженно хорошо, непередаваемо, непостижимо, с такой совершенною внутренней свободой, словно жизнь протекает по моей фантазии и мечте как раз так, как я хотел, со всеми осложнениями и горестями, которых она мне стоит…
3. Из письма В.Т. Шаламову (9 июля 1952 года).
Не утешайтесь неправотою времени. Его нравственная неправота не делает еще Вас правым, его бесчеловечности недостаточно, чтобы, не соглашаясь с ним, тем уже и быть человеком. Но его расправа с эстетическими прихотями распущенного поколения благодетельна, даже если она случайна и является следствием нескольких, в отдельности ложно направленных толчков…
Пока Вы не расстанетесь с совершенно ложною неполною рифмовкой, неряшливостью рифмы, ведущей к неряшливости языка и неустойчивости… я, в строгом смысле слова, отказываюсь признать Ваши записи стихами… Если бы даже двадцать Пастернаков, Маяковских и Цветаевых творили беззакония, расшатывая свои собственные устои и расковывая враждебные им силы дилетантизма, все равно, эта Ваша связь с жизнью, а не их пример, должны были подсказать Вам, что Вы себя и Ваши опыты должны подчинить дисциплине более даже суровой, чем школа жизни, такая строгая в наши дни…
4. Из письма Е.Б. Пастернаку (12 июля 1954 года).
Всю жизнь я вожу с собой умещающийся на одной полке отбор любимых, без конца перечитываемых книг. Однако и среди этих немногих с годами оказываются лишние…
Любителей и знатоков поэзии я никогда не любил. Мне недоставало их начитанности и веры в то, что область их пристрастий реально существует. Их почвы я под собой никогда не чувствовал…
5. Из письма К.Г.Паустовскому (6 января 1958 года)
Как стоит особняком Ваша деятельность … с многообъемлющим нашим окружением, задуманным в виде богадельни, с неисчислимым миром душ, жаждущих опеки, с царством слабых и давно выдохшихся дарований, средних людей с бедною судьбой и боящихся страданий.
6. Из письма Вяч. Вс. Иванову (1 июля 1958 года).
Искусство не доблесть, но позор и грех, почти простительные в своей прекрасной безобидности, и оно может быть восстановлено в своем достоинстве и оправдано только громадностью того, что бывает иногда куплено этим позором.
Не надо думать, что искусство само по себе источник великого. Само по себе оно одним лишь будущим оправдываемое притязание…
Я давно и долго, еще во время войны, томился благополучно продолжающимися положениями стихотворчества, литературной деятельности и имени, как непрерывным накапливанием промахов и оплошностей, которым хотелось положить разительный и ощущаемый, целиком перекрывающий конец…, чего-то сразу сокрушающего привычные для тебя мерила, как, например, самоубийства в жизни других или политические судебные приговоры, – тут необязательно было, чтобы это была трагедия или катастрофа, но было обязательно, чтобы это круто и крупно отменяло все нажитые навыки и начинало собою новое, леденяще и бесповоротно, чтобы это было вторжение воли в судьбу…
Глава 2. Анна Ахматова
Стук сердца нашего обыкновенный,
Жизнь сердца без начала, без конца…
Единственное чудо во вселенной,
Единственно достойное Творца.
Как хорошо, что в мире мы как дома,
Не у себя, а у него в гостях;
Что жизнь неуловима, невесома,
Таинственна, как музыка впотьмах.
Николай Оцуп
К Ахматовой
1926
Анна Андреевна Ахматова (Горенко) родилась 11(23) июня 1889 года под Одессой (Большой Фонтан) – в дворянской семье отставного капитана второго ранга, флотского инженер-механика, эпизодически занимавшегося и журналистикой. Крещена (по метрике) – лишь 17 декабря (при том, что обычно этот обряд проводился в месяц рождения ребенка). Это уже само по себе косвенно свидетельствует о некоторой «безбытности» семьи, в которой отец как бы «отчужден» от детей (коих, между прочим, пятеро – два мальчика и три девочки, среди них Анна – младшая).
Предки по линии матери (Инны Эразмовны, урожденной Стоговой), согласно семейному преданию, восходят к татарскому хану Ахмату (отсюда – псевдоним, происходящий от фамилии прабабки). С материнской же стороны – дальнее родство с Анной Буниной (1774-1829), первой русской поэтессой, а также (внучатая племянница) – с Н.А. Мотовиловым – любимым учеником Серафима Саровского. Крестным отцом являлся старый друг матери и «железный» народоволец С.Г. Романенко…
С годовалого возраста и до 16 лет жила в Царском Селе, каждое лето проводя в Севастополе – на берегу Стрелецкой бухты. Там она «подружилась с морем», но первые детские впечатления – царскосельские: «парки, лошадки, вокзал»… Именно Царское Село заложило в нее основы великолепной русской культуры. Здесь же в 1903 году познакомилась с Н.Гумилевым, после чего стала постоянным адресатом его юношеских лирических откровений…
В пять лет, вслед за старшими детьми, освоила разговорный французский…
Училась в Царскосельской женской гимназии: вначале – плохо, затем – лучше, но неохотно. В доме не было ни одной книги – кроме «толстого тома Некрасова», который мать разрешала читать лишь «по праздникам».
Первое стихотворение сочинила в 11 лет. Но еще до того отец дразнил младшую дочь, называя ее «декадентской поэтессой»: она (единственная из детей в семье) любила стихи и «доставала» их везде, где только могла. В подростковом возрасте (с 13 лет) увлекалась Ш.Бодлером, П.Верленом и всеми другими «прóклятыми» поэтами.
В 1905 году отец ушел из семьи, оставив матери право на свою пенсию, после чего Инна Эразмовна увезла детей на юг, в крымскую Евпаторию: две старшие дочери (Инна и Ия) страдали туберкулезом. Анна перевелась в местную гимназию (где у нее произошла первая серьезная любовная драма, едва не завершившаяся суицидом), а в 1906-1907 годах училась в Фундуклеевской гимназии в Киеве. Сочиняла великое множество беспомощных подростковых стихов.
После окончания гимназии поступила на юридическое отделение Киевских высших женских курсов, к занятиям на которых (1908-1910 годы) довольно скоро охладела. Затем (в начале 1910-х годов) посещала Высшие историко-литературные курсы Н.Раева в Петербурге.
Нетерпеливая, необузданная в своих непонятных привязанностях и капризах девушка, очевидно, не ладила ни с матерью, ни с отцом. Раздражительная, очень трудная в контактах – она «не знала удержу» и «спешила жить». От матери унаследовала и совершенную неспособность наладить свой быт… Вероятно, ближе всего к ней была сестра Ия, но она умерла в 27 лет…
Над семьей вообще тяготело какое-то злое заклятие. Обе старшие сестры скончались молодыми, так и не излечившись от туберкулеза (хотя родители были практически здоровы). Позднее этот недуг поразил и Анну. Она считала впоследствии, что спастись от неминуемой гибели ей позволила настигшая ее «новая хворь» – «базедова болезнь» (нарушение функций щитовидной железы), которая и «оттеснила» туберкулез…
Брат Андрей уже в солидном возрасте покончил с собой, отравившись – после смерти от малярии своего маленького сына. Уцелел в катаклизмах войн и революций лишь брат Виктор – морской офицер, уехавший после Гражданской войны на Дальний Восток, затем перебравшийся в Китай, а оттуда – в США, где и дожил до глубокой старости…
Канонический образ зрелой Ахматовой – женщины суровой, строгой, отяжелевшей – разительно контрастирует с ее обликом в юности и ранней молодости: тоненькая, гибкая, очень высокая и совершенно прелестная девушка, с немного испуганным лицом…
Заброшенная и одинокая в своей трудной семье, где «ничего не ладилось», она 25 апреля 1910 года в Киеве вышла замуж – за Н.Гумилева, который вел «длительную осаду» своей избранницы: их объединило Царское Село, где еще в 1903 году ученик 7-го класса влюбился в гимназистку-четвероклассницу. После нескольких отказов ранее неприступная девушка, наконец, согласилась «принять руку и сердце» начинающего поэта. Но братья и сестры были в ужасе от легкомыслия Анны, выходившей замуж за человека, которого она явно не любила, и даже не пришли в церковь – на обряд венчания молодоженов.
Из логова змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью…
Покликаешь – морщится,
Обнимешь – топорщится,
А выйдет луна – затомится,
И смотрит, и стонет,
Как будто хоронит
Кого-то, – и хочет топиться.
Так напишет Н.Гумилев о своей молодой жене уже через год – весной 1911-го…
В определенном смысле этот брачный союз был заведомо обречен. Добившись своего, поэт постепенно охладел к семейной жизни и уже в 1914 году фактически отошел от нее, а формально брак распался в 1918 году.
Но до 1916 года Ахматова жила с мужем в Царском Селе, на лето супруги выезжали в гумилевское имение Слепнево в Тверской губернии (под городом Бежецком), а в медовый месяц (весна 1910 года) совершили первое для Анны путешествие за границу – в Париж. Собственно, с этого момента и началась ее настоящая жизнь. Поездка во Францию оставила у нее неизгладимо яркие впечатления и явилась для нее замечательной школой искусства.
Вторично она побывала в Париже весной 1911 года. Там Ахматова познакомилась с А.Модильяни, сделавшим с нее карандашные портретные наброски, оказалась свидетельницей первых триумфов русского («дягилевского») балета.
Весной 1912 года Гумилевы путешествовали по Северной Италии (Генуя, Пиза, Флоренция, Болонья, Падуя, Венеция).
«Впечатление от итальянской живописи и архитектуры было огромно, – вспоминала А.Ахматова в 1965 году, – оно похоже на сновидение, которые помнишь всю жизнь». (1)
1(14) октября 1912 года в семье появился первый и единственный сын – Лев (впоследствии – известный ученый-этнолог, историк, географ). «Рыжий львеныш с зелеными глазами», как назвала его в своих стихах М.Цветаева, в полной мере испытал на себе «изломы и вывихи» родительских судеб в России ХХ века…
Участие в литературных проектах Н.Гумилева: журналы, салоны, акмеизм – ничуть не сделало молодую женщину «ученицей» мужа, хотя, конечно, послужило для нее настоящей школой эстетического развития. И главную роль в этом сыграли разборы стихотворных текстов на заседаниях «Цеха поэтов» в 1912-1914 годах, что имело под собой (и представляло собой) гумусный пласт великой культуры.
Эмансипировавшись (чему в немалой степени способствовали и частые отъезды Н.Гумилева – его путешествия, экспедиции в Африку и т.п.), Ахматова вскоре обзаводится в северной столице кругом собственных друзей и ведет свою – в общем-то, независимую от мужа – жизнь. (2)
Сочиняя стихи с детства и печатаясь (под девичьей фамилией) с 18 лет (дебютная публикация появилась в издававшемся Н.Гумилевым в Париже журнале «Сириус», 1907 год), впервые оглашает свои опыты перед авторитетной аудиторией (Вяч. Иванов, М.Кузмин) лишь летом 1910 года.
Отстаивая с самого начала семейной жизни собственную духовную самостоятельность, делает попытку напечататься без помощи Н.Гумилева: осенью 1910 года посылает свои стихи в журнал «Русская мысль» – В.Брюсову (спрашивая, стоит ли ей заниматься поэзией), а затем отдает эти стихи в журналы «Gaudeamus», «Всеобщий журнал», «Аполлон», которые (в отличие от В.Брюсова) их публикуют.
По возвращении Н.Гумилева из африканской поездки (март 1911 года) читает ему все сочиненное за зиму и впервые получает полное одобрение своим литературным опытам. С этого времени становится профессиональным литератором и публикуется под псевдонимом «Анна Ахматова» (официальной фамилией он стал лишь в 1940-е годы – после оформления соответствующих документов ее третьим мужем Н.Пуниным).
С благословения и с предисловием М.Кузмина в 1912 году выходит первый ахматовский стихотворный сборник – «Вечер» (СПб.: Цех поэтов, 1912. – 90 с. – 300 экз.). В нем помещены, в основном, стихи, написанные в 1910-1912 годах, – замечательные и вполне самостоятельные лирические произведения.
Это и отметил в своей рецензии на книгу критик-стиховед В.Чудовский: «Анна Ахматова умеет по большой дороге современной художественной культуры идти с такой самобытной независимостью личной жизни, как будто эта большая дорога была причудливой тропинкой ее заповедного сада». (3)
Любовь, действительно, переполняет книгу. И эти чувства так свежи, а мысли настолько оригинальны, что не попасть под их очарование просто невозможно:
Мне с тобой и пьяным весело –
Смысла нет в твоих рассказах.
Осень ранняя развесила
Флаги желтые на вязах…
1911
Эти и другие стихи дарят читателю настоящую радость жизни…
Успех первой ахматовской книги был поразителен. Настал черед и Н.Гумилева серьезно присматриваться к тому, как и что пишет его жена…
Сама Ахматова главным своим учителем считала И.Анненского. Именно благодаря ему она поняла, как надо «творить стихи»: он «перевернул» ее представление о поэзии.
«Когда мне показали корректуру «Кипарисового ларца» Иннокентия Анненского, я была поражена и читала ее, забыв все на свете», – вспоминала Ахматова в 1965 году об этом «ошеломляющем впечатлении», называя его «мгновенным озарением и просветлением». (4)
После выхода первого сборника жизнь Ахматовой протекает под знаком растущей столичной славы. В 1912 году участники недавно образованного «Цеха поэтов» объявляют о возникновении поэтической школы акмеизма. Ахматова избирается секретарем этого «Цеха».
В 1913 году она выступает перед многолюдной аудиторией на Высших женских (Бестужевских) курсах, ее портреты пишут художники, к ней обращают стихотворные послания поэты (в том числе А.Блок, что даже породило легенду об их «тайном романе»).
И все же первый сборник был лишь прелюдией триумфа. Настоящая – большая и всероссийская – слава пришла к ней после выхода 15 марта 1914 года второй книги стихов – «Четки» (СПб.: Гиперборей, 1914. – 138 с. – 1.100 экз.). Корректуру книги держал М.Лозинский. Она разошлась менее чем за год и в течение десяти следующих лет выдержала еще девять переизданий, породив многочисленные подражания и утвердив в литературном сознании понятие «ахматовской строки».
Ахматова мгновенно стала одной из самых модных и знаковых личностей в пряном мире рафинированной столичной культуры, оставшись и для новых поколений моделью «женщины-красавицы» 1910-х годов.
Именно этот «женский» успех, пришедший к ней накануне большой войны и последовавших затем социальных потрясений, она ценила существенно выше своей поэтической популярности. Ее называли «русской Сафо». Но она не желала быть «поэтессой», считая себя всю жизнь Поэтом – без каких-либо гендерных скидок и оговорок.
Видная деятельница партии кадетов, а также известный литератор А.Тыркова-Вильямс вспоминала об ахматовском дебюте:
«Пленительная сила струилась от нее, как и от ее стихов. Тонкая, высокая, стройная, с гордым поворотом маленькой головки, закутанная в цветистую шаль, Ахматова походила на гитану. Нос с горбинкой, темные волосы, на лбу подстриженные короткой челкой, на затылке подхваченные высоким испанским гребнем. Небольшой, тонкий, не часто улыбавшийся рот. Темные суровые глаза. Ее нельзя было не заметить, мимо нее нельзя было пройти, не залюбовавшись ею. На литературных вечерах молодежь бесновалась, когда Ахматова появлялась на эстраде…». (5)
И правда, никакая фотография, никакой портрет не в силах передать наклон этой покорной шеи, сладостную и горькую линию рта, странную горбинку на носу, которая делала ее похожей на финикийскую рабыню. Высокая, тоненькая и гибкая, с прозрачными руками она производила сильное впечатление на мужчин. Удивительные гибкость и изящество стана. В Слепнево она в домашних «играх в цирк» выступала как человек-змея, легко закладывая ноги за шею и касаясь затылком пяток.
Но ахматовская необузданность, ее дикая сила, своеволие, твердыня и благородство духа не потерялись и не разложились под покровом «модной красавицы». Под ее ногами, действительно, «горела земля». Эта природная сила и неистовость сохранялась в ней до конца дней.
Правообладателям!
Представленный фрагмент книги размещен по согласованию с распространителем легального контента ООО "ЛитРес" (не более 20% исходного текста). Если вы считаете, что размещение материала нарушает ваши или чьи-либо права, то сообщите нам об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?







