Правообладателям!
Представленный фрагмент книги размещен по согласованию с распространителем легального контента ООО "ЛитРес" (не более 20% исходного текста). Если вы считаете, что размещение материала нарушает ваши или чьи-либо права, то сообщите нам об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?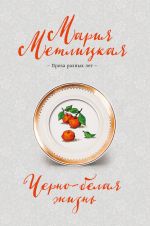
Текст бизнес-книги "Черно-белая жизнь"
Автор книги: Мария Метлицкая
Раздел: Личностный рост, Книги по психологии
Возрастные ограничения: +16
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Материнская родня – две сестры, Оля и Надя, – были хорошими женщинами, при этом страшно несчастными – убогий быт, тяжелая работа, пьющие мужья и неудачные дети. Что они видели в этой жизни? Да ничего! Младшая, Юля, Кирина мать, была для них королевой и сказочной везуньей. А как же: непьющий муж, к тому же военный, приличная, тихая дочь. А какой у Юльки кримпленовый импортный костюм! А чешские туфли с бантиком?
Мать и вправду пару дней выпендривалась, но потом все вставало на свои места – она принималась за готовку, чтобы помочь сестрам. Какой она пекла наполеон, сколько она с ним билась! И какой же была счастливой, когда вечером, после работы, все садились за стол – несчастная Надя, бедная Оля и она сама, счастливая Юля. Тут же никчемные мужья теток и Кирин положительный и серьезный, всеми уважаемый отец. Два двоюродных брата и сестра – скучные, серые, совсем никакие, не о чем поговорить. Кирина двоюродная сестра Светка мечтала об одном – выйти замуж, и поскорее. На Кирин вопрос, а зачем так рано, усмехалась:
– Затормозишь – останешься в девках!
По вечерам все выходили во двор и устраивались на лавочках. Щелкали семечки и говорили за жизнь. Женщины не снимали халатов и тапочек – а зачем? Так и сидели во дворе – и смех, и грех.
Но разве они были плохими людьми? Ее несчастные тетки, вечные трудяги, не ведающие о другой жизни и тянувшие свой тяжелый воз? И ее родители, тоже вечно колготящиеся, бьющиеся за «достойную» жизнь? Суетливые, глуповатые, смешные.
Но плохие? Нет. Они всегда старались помочь – соседям, знакомым. Кира помнила, как она страшно удивилась, узнав уже в юности, что мать регулярно и без задержек, десятого каждого месяца, отправляла пятерку отцовской двоюродной сестре Тине – одинокой вдове с тремя детьми. Тина жила где-то в сибирском захолустье, тяжело работала. Кто эта Тина была матери? Так, дальняя родственница. Виделись раз пять в жизни, и что с того? А ведь помогала. И деньги тогда это были немалые – и это при материнской скупости.
А как мама выхаживала соседку бабу Лену, одинокую, оставленную пьющими детьми? Носила ей еду, кормила с ложки, меняла белье, стирала его и проводила у постели старушки ночи и дни. И хоронила ее на свои, кстати, деньги, бабы-Ленины сыновья-пьяницы ничего дать не могли. И поминки мать собрала. Говорила – достойные.
А как она ухаживала за отцом – ночевала в больницах на кушетках, если вообще спала.
Да и отец – всю жизнь переписывался с однокурсниками по училищу. И, кстати, когда разбился его друг, отослал его вдове крупную сумму денег.
А то, что тогда мать не приняла их с Мишкой… Так, наверное, она была все-таки права – ни одного дня они бы не ужились, к тому же эти вечные хворобы отца.
Кира поняла, что сейчас разревется, и пошла в ванную. Потом зашла в свою комнату – свою бывшую комнату. Крошечную, как и, впрочем, вся квартира – словно конструктор, собранный для лилипутов. Большая комната в четырнадцать метров – «зал»! И ее, бывшая детская, – восемь метров. Сейчас здесь спала мать. Те же клетчатые шторки – синяя и белая клетка. «Крокодильчики» на металлической струне чуть провисли – то еще приспособленьице! Жесткая тахтичка – узкая, неудобная. Потертый коврик у кровати – полы всегда были холодными, «не дай бог Кира застудит почки». Письменный стол, стул. Двухдверный облезлый шифоньер, притараненный из гарнизона. Зачем надо было тащить его с собой? Как Кира злилась в юности: «А что, нельзя сказать «шкаф»?» Мать обижалась. А Кире еще больше хотелось вредничать – подмечать их промахи, нелепые привычки, дурацкие деревенские словечки. Чтобы обидеть, задеть, посмеяться.
А как родители радовались этой квартире-клетушке! Все, что отец заслужил за долгую службу. А ведь он принял ее как награду. Но разве это награда? Смешно.
И перед Верой Самсоновной Кира своих родителей стеснялась. И перед Володей. А уж перед Мишкой…
А сейчас стало стыдно – почему она их стыдилась? За что презирала? Но разве они виноваты в том, что жизнь их приучила копить, прятать, сберегать, оставлять на черный день? Разве они виноваты, что жизнь, сама жизнь, сделала их такими? Как она оставит их – немолодых, нездоровых? Совсем одиноких?
Пообедали молча. Только мать все извинялась, что обед вышел таким – картошка да капуста. Конечно, своя, квашеная, из синего эмалированного ведра:
– Почти вся осталась, Кира! Ты ж не брала! А мы уже не очень ее и едим, желудки не те. Вот приехала бы ты – и на всю зиму бы обеспечили! Витамины! Витамина С в ней больше, чем…
– Мамочка! – перебила Кира. – Ну хочешь, сейчас заберу? Навитаминимся к лету.
Мать грустно кивнула и украдкой отерла слезу. Ни о чем не спрашивали – ни об отъезде, ни тем более о Мише. Кира понимала – он для них враг, увозит родную дочь. Без него бы она ни в жизнь до такого не додумалась. И в голову бы не пришло – она ж дочь военного!
Кира сама начала про отъезд.
– Когда? – робко спросила мать.
Кира небрежно махнула рукой:
– Да не скоро, мам! Еще столько всего! И бумаг надо кучу собрать, и дождаться разрешения. Сколько – не знает никто. Они там могут выкинуть любой фортель.
– И не пустить? – с надеждой спросила мать.
Кира вздохнула.
– И в том числе не пустить.
И тут же пожалела об этом – вот, подарила надежду. Дура, ей-богу. Не пустить их, в принципе, не должны были, так считалось. Мишка давно ушел из института, сто лет назад. Но кто его знает, как сложится.
Потом долго пили чай и тоже молчали.
Наконец мать выдавила:
– Это ведь навсегда, Кирочка? Ну, если вас… выпустят?
Отец дернулся и покраснел.
– Мама! Не мучай меня, умоляю! Ну ты же сама все понимаешь! Мы же здесь пропадем!
Мать быстро заверещала:
– Кирочка, о чем ты? Никто не пропал, а вы пропадете? Почему, доченька?
Кира вздрогнула – мать никогда не называла ее доченькой. Ну, если только в далеком детстве.
– Почему пропадете? – повторяла мать. – Да, жизнь непростая. Но ведь никто не пропал, доченька, – все как-то живут. Не голодают же, а! Работают, детей рожают. Мебель покупают, дачки строят! Живут ведь люди! Куда вы собрались, дочка? Это же совсем незнакомый мир! Совсем чужой! Как вы там? Одни, без родных? А не приживетесь? Подумай, Кирочка! Умоляю тебя!
– Уже подумала, – жестко ответила Кира. – Мама, решение принято. У Миши там перспектива. Работа. Бывший коллега ему обещает. Дело его. Ну и я как-то устроюсь. Мама, там, знаешь ли, тоже еще никто не пропал! Никто, понимаешь? Ну и потом… Устроимся и вызовем вас! И будем все вместе.
Ни секунды она не верила этому. Прекрасно понимала – этого никогда не будет. А сказала.
– Ну нет! – Отец хлопнул ладонью по столу. – Мы туда никогда не уедем! Никогда, понимаешь? Плохо ли здесь, хорошо, а родина! Тебе мы это не объяснили – наша вина. Мы тебя не держим, езжай. А про нас и не думай, я всю жизнь ей отдал, родине своей. Плохой, хорошей – не знаю. – Он резко встал, качнулся, и мать тут же вскочила, чтобы его поддержать.
«Пора, – подумала Кира. – Все, надо ехать. В конце концов, это еще не прощание. Это – начало прощания. Только теперь надо почаще к ним ездить – единственное, что я могу. А сейчас вдвоем им будет проще, когда уйдет раздражитель. Вот так получается».
Мать увела отца в комнату, и Кира зашла попрощаться, помогла матери уложить его в кровать. Наклонилась.
– Папочка! Ты нас пойми, умоляю! Ну не складывается здесь у нас!
Отец чуть привстал на локте – Кира видела, что даже это простое телодвижение далось ему с большим трудом. Откашлявшись, просипел:
– А может, дело в другом? Не в стране и не в режиме? Может, дело в человеке? Знаешь, дочь, – он снова закашлялся, – все от человека зависит. Если здесь он бесполезен и ни на что не годен… Подумай, дочь! – И повернулся к матери: – Не забудь!
Мать кивнула. Кира не поняла, о чем они. Да и ладно.
У двери мать протянула ей плотный конверт.
– Здесь деньги, Кира! Немного, но сколько уж можем. Вам в дорогу. Вам же многое надо – ну, разное там. Я с Раей Левиной говорила, у нее сестра с детьми уезжала. Она меня и просветила. Да тебе лучше меня все известно! Возьми!
Она держала в руках конверт, и в глазах ее были испуг и мольба. Чего она боялась? Что Кира откажется?
Кира прижалась к матери и тихо сказала:
– Спасибо, мам! Ты даже не представляешь, как нам это надо!
Мать всхлипнула.
В электричке Кира не могла сдержать слез. «Какая тяжесть на сердце, какая тоска. Электричка эта, кратовская, дорога, знакомая до каждой мелочи, каждого деревца, каждой урны. Дорога слез и тоски».
Ей всегда казалось, что она не очень любила своих родителей. Точнее, спокойно без них обходилась. Ей было вполне достаточно редких, раз в месяц, коротких и скупых встреч – повидались, и ладно. Она не ждала от них помощи – никогда и никакой – и не прибегала в родительский дом, когда ей было невыносимо плохо. И в голову бы это ей не пришло! Она никогда не рассказывала им о своих проблемах, уверенная, что так им будет спокойнее. Нет, вспомнила: что-то произошло на работе, какой-то конфликт с начальством, и она очень переживала. Приехав к родителям, неожиданно для себя начала подробно, в лицах, рассказывать об этом. Держаться не было сил – разревелась. И вдруг увидела, поняла, что им это точно неинтересно – отец продолжал листать «Советский спорт», иногда повторяя свое вечное «угу». А мать лепила пельмени. И вдруг, посреди Кириного рассказа, подняла глаза и сказала:
– Ой, Костя! А свинина-то постная! Может, сальца добавить?
Кира поперхнулась от возмущения и обиды, схватила пальто и выскочила на улицу. Как было жалко себя! Окна квартиры выходили во двор, аккурат на ту скамейку, где плакала обиженная Кира. Наверняка мать подходила к окну – она любила поглазеть во двор: кто как поставил машину, кто из соседок судачит на лавочке. Кира просидела на той скамейке около часа. Подняла глаза на окна родительской квартиры – мать отпрянула от окна. Она поднялась и пошла на станцию. С откровениями было покончено – теперь навсегда.
Трудно было с этим смириться – принять то, что она, по сути, им тоже не очень нужна. Обидно? Обидно. Может, дело в том, что она рано ушла из дома? Какая разница? Но вот сейчас, в эти дни, когда до отъезда оставались считаные месяцы, почему-то особенно болела душа.
А дома удивила Мишкина реакция – так удивила, что она смешалась.
– Раскошелились старички? Ух ты! И их пробило! Ну, Кирка! Гуляем!
Кира ничего не ответила. Было обидно – и юморок его дурацкий, и эта неприкрытая радость. И это «раскошелились старички».
Не удержалась, выдала:
– А они тебе чем-то обязаны, Миша?
Он ничего не понял.
– Мне – нет. А вот тебе… Ты же единственная дочь.
– А приличная единственная дочь не бросает своих, как ты изволил выразиться, «старичков» – приличная и единственная дочь живет возле них и заботится о них!
Сказано это было, естественно, с вызовом, и Мишка снова удивился:
– Что-то я не заметил, что ты стремилась жить возле них. Извини.
Конечно, Кира обиделась. Но назавтра хлопоты закрутили. Мишку она, конечно, оправдала – мужики, что с них взять. Лепят первое, что придет в голову. А по, сути-то, прав. Сама же ему рассказывала про вечные разговоры о деньгах, про вечные «отложить и сберечь», про пять сберкнижек, обнаруженных ею случайно. Про скупость родителей. Выходит, сама виновата. Ну, не подумал – Мишка такой, о форме не беспокоится. Бог с ним.
Дел было много. Бросилась по магазинам, судорожно сжимая в руке список «отъезжантов». А все надо было доставать, с потом и кровью. Одеяла, подушки, кастрюли, чайник – обязательно небольшой, на один литр. Попробуй найди! И со свистком непременно – там, знаете ли, денежки берегут и электричество понапрасну не жгут, как у нас. Одеяла надо было достать обязательно теплые, желательно пуховые, из тех же соображений экономии отопления. А еще шерстяные спортивные костюмы. Клей. Как будто они отправлялись на Северный полюс, а не в Европу!
Кира слушала умных и опытных – тех, кто списывался с уже отъехавшими. На своих ошибках, как говорится, учатся одни дураки. А дураками в очередной раз быть не хотелось.
В их новой компании говорили только об одном – об отъезде. И обо всем, что с этим связано. Кире начинало казаться, что поднимается весь Советский Союз и других забот у людей просто нет. Мишка тянул ее в эти «гости», она сопротивлялась, он настаивал. «Больше информации – меньше ошибок», – без конца повторял он.
Может, и так. Только как все это утомляло! Как хотелось сходить в театр, в кино. Просто отключиться от этих проблем хотя бы на пару дней. Забыть, что ты отъезжант, будущий эмигрант. Что ты навеки прощаешься с неласковой, но все-таки родиной. Что скоро закончится прежняя знакомая и понятная жизнь. И ждут тебя – а ждут ли? – чужие берега, непонятные, неизвестные.
Страшно. Но это и будоражило – сколько всего можно узнать! Например, посмотреть мир. Разве от такого отказываются? Да сколько людей мечтают об этом – получить этот шанс. У них этот шанс есть! Выходит, они счастливцы?
Пару раз съездили к Зяблику – тот был странно тих и молчалив. Да и в доме была тишина – никаких тебе красоток на длинных ногах, никаких иностранных дипломатов с вечными стаканами виски в руках. Никаких ночных покеров – тишина. Кира удивилась. Мишка скупо объяснил, что у Зяблика тяжелый и бесперспективный роман.
– Очередной? – с сарказмом уточнила Кира. – Ну тогда не страшно, пройдет. Сколько раз уже было!
– Нет, здесь другое! – уклончиво ответил Мишка. А что – уточнять не стал. Секрет.
«Тоже мне, секрет! – подумала Кира. – Ну и бог с ними со всеми – с Зябликом, его роковой любовью, с Мишкой и с их общими секретами. У меня есть дела поважнее».
Был май – месяц, который Кира особенно любила. Месяц обновлений, надежд. Месяц свежий, душистый – первые робкие цветы, первые молодые и клейкие зеленые листочки. Запах черемухи, сирени, ландышей. Липы и тополей. И просветлевшие лица – люди ждали обновления вместе с природой.
Но этот май радости не приносил – сплошные тревоги.
Отъезд был назначен на конец июня – дни щелкали, как счетчик в такси. И утекали, как время – бесследно и неизбежно. Заканчивалась старая жизнь, и где-то там, за невнятным горизонтом, скоро должна была начаться другая.
Какой она будет? Кто знает.
* * *
В Жуковский Кира ездила часто, раз в три дня. Родители вглядывались в ее лицо, словно пытаясь найти признаки изменений. Но пока, естественно, не находили – дочь была все той же. Разве что более нервной, дерганой, измученной.
Кира старалась изо всех сил – делала вид, что ей весело, радостно. Что она так ждет этого часа. Что ей не терпится – поскорее бы. Но на душе было по-прежнему погано.
Трещала не переставая – рассказывала байки про отъезжающих, таможенников и прочее. Родители внимательно слушали, охали, удивлялись и, конечно, пугались.
Мать подружилась с Раечкой Левиной и проводила у соседки вечера. Опытная Раечка показывала ей фотографии сестры и племянников, хвасталась их успехами. Она все знала про цены – от хлеба до мяса. И надеялась вскоре «воссоединиться» с родными.
– У нее-то есть шанс, – однажды сказала мать. – Племянники хорошо устроены, вышлют вызов, и полетит наша Рая.
Отец с удивлением посмотрел на жену:
– А ты что, тоже хочешь вслед за этим?
Мать сурово подобрала губы и сухо ответила:
– Не за этим, а за дочерью! Разницу чувствуешь?
– Нас они не позовут – и не надейся. – Отец хлопнул ладонью по столу. – Кому ты там нужна? Ему? Или дочери своей? Так и ей ты давно не нужна! Не заметила? – Он вышел из кухни, а мать еще долго сидела в темноте и тихо плакала. Все было правдой. Муж сказал то, о чем она и подумать боялась. Только стало ли ей от этого легче? Нет, ни минуты – стало еще тяжелее.
«На что я рассчитываю, дурочка? – подумалось ей. – Костя прав. Прав, как всегда. Это я, дура, всю жизнь на что-то надеюсь, все за чистую монету принимаю».
* * *
Кира по-прежнему не замечала того, что происходило вокруг – в середине июня окончательно установилась жара, да такая, что старожилы ничего подобного не помнили. На улицах плавился асфальт, Москва задыхалась от жара и смога. По ночам было особенно невыносимо – распахнутые окна прохлады на давали, асфальт, стены и крыши домов не успевали остыть за короткую и светлую ночь. С раннего утра солнце нещадно палило.
Мишка слушал «вражеские голоса», ловил сводки погоды и бурно радовался:
– Кирка! У нас – двадцать два! Ты представляешь? Вот погодка!
Кира молчала: «У нас, ага. А что еще скажешь?» Она удивлялась, что Мишка не созванивается с Семеном – как же так, они ведь скоро приедут. Все ли там в порядке, все ли по-прежнему в силе? Нечего не поменялось?
Муж небрежно отмахивался:
– Да все в порядке! Что названивать, Кир? Три дня назад говорили, тебя не было дома. Конечно, все в силе! А как по-другому?
«Ну и ладно, – успокаивала она себя. – В порядке, и слава богу. Будет как будет».
Отъезжанты устраивали проводы – было так принято. Кто-то – если позволяла квартира – «провожался» дома. А те, у кого были средства, снимали кафе или ресторан – в зависимости от толщины кошелька. В квартире в Медведках не было ни места, ни посуды, ни стульев со столом. Решили найти недорогое кафе.
Принялись составлять список гостей. Конечно, родители. Вторым номером – Зяблик. Пара Кириных подруг – одна школьная, Алла, и две институтские – Света и Галя. Мишкины одногруппники, Дима и Стас. Ну и самые близкие «отъезжанты». А вот их набралось прилично, аж четырнадцать человек. И еще коллега Лерочка. Лерочка, к слову, очень им помогла – ее свекровь работала заведующей секцией в универмаге «Москва». Знакомство более чем ценное – волшебное. Она и помогла собрать «узелок» – югославские зимние сапоги Кире, австрийское пальто – там такая зима, что проходишь в демисезонном! – косметика кое-какая на первое время, пока точно не будет денег. Польские духи – на французские Кира денег пожалела: «Обойдусь». Джинсы и куртку Мишке – отличную теплую «аляску». «А разве такая нужна? – робко спросила Кира. – Вы же говорили, теплая зима». Тетка обиделась: Кире тут такое предлагают, а она еще и недовольна!
Народу получалось много, на такие деньги они не рассчитывали. И снова спас Зяблик – сообщил, что икрой, рыбой и мясными деликатесами он обеспечит. И вправду приволок огромного, метрового, осетра и банку черной икры – килограмма на полтора. Ну и еще всякой всячины – сухую колбасу, огромный целиковый окорок и здоровенный шмат буженины.
Кира, совсем не спавшая в последние дни, выглядела ужасно – от зеркала правды не скроешь. Похудела на шесть килограммов – раньше об этом мечтала, а теперь ей это не нравилось. Не стройности прибавилось – рахитичности. В парикмахерскую, конечно, сходила – прическа, маникюр, все как положено. А выглядела все равно плохо. Даже новое платье, щедрый подарок Лерочкиной свекрови, настоящее джерси нежно-сиреневого цвета, не платье – мечта, не спасало.
Родители сидели тихие, скорбные и пришибленные, как на поминках. Совсем ничего не ели – в тарелках опадала горка салата, жухли огурцы, заветривалась рыба. Сидели, как незваные гости, словно боялись, что сейчас их опознают и погонят прочь. Мать расстаралась – высокая «башня» на голове, залаченная до твердости, стеклянности, кримпленовый костюм в крупную розу, лаковые туфли. Отец парился в темном костюме – кажется, единственном, купленном сто лет назад, на сорокалетний юбилей. Костюм был давно тесноват, галстук давил на шею, и было видно, что он страшно мучается.
Кира подошла к нему и помогла снять пиджак, потом стащила и галстук. С жалкой улыбкой отец выдохнул, порозовел и на радостях хлопнул хорошую стопку водки. А мать сидела по-прежнему вытянувшись в струну, словно окаменела. С удивлением рассматривала незнакомых гостей дочери и не понимала, как надо себя вести – сказать тост? Какой тост, господи? Пожелать им счастливого пути? Да, наверное, надо. Только она так нервничает, что громко сказать не получится – голос, кажется, сел. «Поднять отца? – Она мельком взглянула на мужа. – Нет, не стоит. Он, кажется, уже вполне хорош. Да и нервничать ему не след: не дай бог что – гипертоник». Она судорожно глотнула воды, взяла себя в руки, медленно поднялась, чувствуя, как дрожат и руки, и ноги. Подняла бокал с вином, осторожно постучала ножом по бутылке, призывая к вниманию. Но ничего не получилось – по-прежнему гремела музыка, кто-то танцевал, кто-то пил, кто-то ел, кто-то курил, а кто-то бурно что-то рассказывал. Ее так никто и не услышал – ни стука ножа о бутылку, ни слабого, хриплого призыва. «Товарищи!» – начала она, и слава богу, что никто не услышал. Слишком нелепо прозвучало здесь это «товарищи». Ее никто и не собирался слушать – все были заняты своими делами. Да и какие особые тосты на проводах? Так, коротенько: «Ребята, удачи! Счастливого пути и легкой посадки».
Что разводить? Да и тосты давно все сказаны – люди пьют, едят, танцуют и треплются. Какие тут тосты, о чем вы? Не столетний же юбиляр за столом! Кира поглядывала на родителей, и ей хотелось плакать. Знала – вот сейчас подойдет и… Не сдержаться… Откуда взять столько сил? Старалась не сталкиваться с ними взглядами. И думала – скорее бы это прошло, закончилось. Скорее бы, господи! Сколько можно кромсать по кускам! Как живодеры собачий хвост. Больно же, больно!
С родителями прощались у подъехавшего такси. Отец хмуро смотрел в сторону. К подошедшему зятю не повернулся – молча протянул руку и, не глядя, кивнул:
– Будь здоров.
Кира прощалась с матерью. Обнимая, шептала какие-то глупые слова, уткнувшись мокрым лицом в ее жилистую и твердую, пахнувшую прогорклыми духами шею, гладила ее по волосам, а мать замерла, напряглась – взгляд в никуда, плотно сжатый рот, деревянные руки – столб, а не человек. Обледенелый каменный столб.
– Мама! – в отчаянии крикнула Кира. – Ну скажи что-нибудь, я тебя умоляю!
Мать очнулась, мертвыми глазами посмотрела на дочь и, почти не открывая рта, тихо произнесла:
– Будь счастлива, дочка.
Ситуацию спас таксист. Открыв окно, заорал на всю улицу:
– Ну хорош разводить тут! Давай поехали! Ехать-то черт-те куда – за город! Хорош прощаться, не на похоронах!
Как раз на похоронах, мелькнуло у Киры. Да что там – хуже. Если, конечно, бывает хуже. После похорон, пройдя через боль и страдания, осознаешь: нет больше человека! Нет и не будет. И никогда, никогда тебе с ним не встретиться. И в конце концов после этого окончательного понимания и осознания приходит смирение. Это данность, увы…
А здесь… Здесь все вроде бы живы и даже вполне здоровы. Все живут своей жизнью – прежней или новой. Но увидеться они не смогут, несмотря на расстояние в какие-то ничтожные две тысячи километров. И получается, что это тоже смерть – только другая. Которую, может быть, воспринимать еще тяжелее, еще больнее.
Такси разворачивалось, и Кира в последний раз увидела растерянные, испуганные глаза матери. «В последний раз, – пронеслось у нее в голове. – Господи боже! И это правда? Как я могла?» Она села на корточки и в голос завыла. Мишка сел рядом и обнял ее. Он молча гладил по голове и что-то шептал. Но какие слова могли ее утешить? И правильно, что он замолчал. Так было легче. Если вообще здесь применимо это слово – «легче».
* * *
Самолет улетал в десять утра. Отвозил их Зяблик – Кира вспомнила, что на вчерашнем «празднике» тот был тих и печален. И смылся, кажется, рано – хотя, если честно, она за ним не следила, не до того.
И сейчас Зяблик казался хмурым и молчаливым. Переживает за лучшего друга? Наверное. А может, не выспался. Или свои неприятности. Да и что тут веселого – провожать близких людей на чужбину? Отпускать любимых в непонятную жизнь. Не до смеха.
Мишка заметно нервничал, а Кира была абсолютно спокойна. Но это не было раздумчивым и рациональным, трезвым и обнадеживающим спокойствием – это были, скорее всего, равнодушие ко всему, нечеловеческая усталость и полная опустошенность – как будет, так и будет. Всё.
Хуже уж точно не будет – не может быть хуже.
Она смотрела в окно машины, за которым все дальше и дальше уплывал от нее любимый и родной город. Город, в который она, скорее всего, никогда не вернется. Город, где прошли ее молодость, ее золотые годы – счастливые и не очень. В юности все они золотые – что говорить! Проехали Химки, и началось Подмосковье. Любимый город остался позади, как мираж.
Кира громко и шумно выдохнула, и Мишка, обернувшись, с тревогой посмотрел на нее. Она коротко мотнула головой – не волнуйся. «Всё, всё! – говорила она про себя. – Всё там, позади. А впереди – только новая жизнь. И точно – счастливая».
Этот последний день тоже был жарким – с раннего утра нещадно палило белесое недоброе солнце. Листья на деревьях посерели, пожухли, свернулись. Асфальт словно вздулся, припух и нестерпимо вонял гудроном.
Окна домов были распахнуты, но и это, конечно, жизни не облегчало. На Кольцевой стало чуть легче – немного пахнуло свежестью от леса. Зашли в здание аэропорта и дружно выдохнули – в здании было прохладно и немного сумрачно, словно это отрезало, отделило, отсекло, как демаркационная линия, их от города с его немыслимой жарой и их прошлым. Здесь, казалось, была уже совершенно другая жизнь.
* * *
Она не сразу узнала его. Как же он изменился! Вместо красавца и франта Зяблика напротив нее, жалко улыбаясь, стоял старик. Сутулый, седой, с потухшими глазами. Лешка Зяблов, бывший красавец, наследный принц, бабник, гуляка, кутила, картежник.
Увидев ее, он вздрогнул и подался вперед.
– Ну здравствуй, Кирюша! Как долетела? – Он подхватил ее дорожную сумку и неуверенно чмокнул в щеку. – Рванули? Машина там, на стоянке. Подождешь? Я подъеду.
Кира кивнула, пытаясь выдавить улыбку.
– Конечно, Леша! О чем ты? И спасибо тебе, что не проигнорировал, встретил. Ведь у всех своя жизнь, я понимаю.
Зяблик сделал большие глаза и возмутился:
– О чем ты? Глупость какая – проигнорировать? Ну, мать, ты даешь! – И, покачивая головой, направился к выходу.
А она отправилась за ним, с грустью и жалостью подмечая его стариковскую, шаркающую походку, согбенную спину и стоптанные каблуки на старых ботинках. И это было самым невероятным.
На улице наступили легкие сумерки.
Кира смотрела в окно, равнодушно отмечая перемены, и ничему, честно говоря, не удивлялась. Ну во-первых, все сведения сегодня были доступны – о переменах в столице вопили интернет, соцсети и пресса. С удовольствием ругали прежнего мэра и, кажется, с еще большим энтузиазмом нынешнего. Москвичам не нравились нововведения и так называемый креатив – ни праздничное освещение улиц, ни украшения в виде дурацких освещенных арок, ни букеты похоронных искусственных цветов в пластмассовых кашпо, висящие на фонарях. Не нравилась бестолковая трата денег на совершенно ненужные глупости. Народ возмущался, но, конечно же, ничего не менялось.
А Кире все это было до фонаря – с этим городом она давно распрощалась и он, слава богу, остался в ее воспоминаниях таким, каким был. А этот, новый, город она и не считала своим – не о чем горевать. Ее дом давно в другом городе – ухоженном, чистом, красивом. Городе на берегу реки Майн.
Зяблик коротко глянул на нее и усмехнулся:
– Ну как? Как тебе это все? – В его голосе чувствовалась грустная ирония.
– Да никак, – спокойно ответила Кира. – Это уже давно не мое.
– Тебе легче! – улыбнулся Зяблик.
Машина остановилась у легендарной высотки на Восстания. Здесь, казалось, все было по-прежнему: легендарная высотка была все того же серо-бурого цвета, наличествовали и шпиль на главном корпусе в двадцать четыре жилых этажа, и легкие ажурные башенки на боковых уступах, фасад с пилястрами, разбивающийся на пояски, входы со скульптурами с барельефами, подсветка на фасаде – снаружи все было по-прежнему. Только исчез – как не было – знаменитый Пятнадцатый гастроном, украшенный богато, с размахом, под стать самому дому и его важным жильцам.
Войдя в подъезд, некогда пышный, богатый, помпезный, Кира увидела, что все изменилось. Вместо роскошных красных ковров – истоптанная серая грязная дорожка, зеркала кое-где треснули, богатые рамы поблекли, роскошные бронзовые светильники с матовыми плафонами были заменены на более скромные – или ей показалось? Нет, витражи, главное богатство и красота подъездов, сохранились. И мраморный пол – серо-коричневый, с красными вставками – тоже. Но лифты, поразившие когда-то ее своей немыслимой роскошью, казались старыми и убогими.
– Ну? – усмехнулся Зяблик. – Что я тебе говорил? Былая роскошь, правда? И ничего не осталось от прежней – увы. А про никого я просто молчу.
– Совсем никого? – удивилась Кира. – А куда же все подевались?
– Это совсем просто. Старики, естественно, поумирали. Дети тех стариков тоже уже старики – вроде меня. Остались внуки, которые бросились распродавать наследство. Еще несколько лет назад за здешние радости давали приличные деньги! В крайнем случае можно было сдавать квартиры в аренду. Тоже, знаешь ли, приличный доход для безбедного существования. А кто стал новым жильцом? Естественно, нувориши. Те, кому раньше это было абсолютно недоступно, даже в мечтах. Внезапно разбогатевшие, мечтающие пожить в роскошном, респектабельном доме, где всегда жили сливки, элита. Вот и заполонили. Так что соседство у меня, – он вставил ключ в замок и не без усилий попытался открыть дверь, – нарочно и не придумаешь.
Кира кивнула и вспомнила, как она, впервые зайдя в этот роскошный и величественный подъезд, испугалась, застыла и оробела.
Наконец дверь открылась, и они зашли в квартиру. Вспыхнул свет. Кира огляделась. Кажется, все было прежним – широкая прихожая, переходящая в просторный холл. Та же люстра на потолке – синее стекло, белые матовые плафоны. Вешалка-рогатка из темного, почти черного дерева – мощная, устойчивая, неподъемная. Сундук-галошница, тоже темный и тяжелый, с тусклым медным запором-подковкой. Кира вспомнила, что наряду со сношенной обувью в нем валялись старые журналы и газеты. Пара офортов на стене, тоже знакомых: охота и конские скачки.
Прошли дальше. В холле по-прежнему стояли два кресла и бюро, старожилы квартиры. И торшер Кира узнала: на латунной крепкой ноге абажур малинового цвета с кистями – старый знакомец.
– Проходи, располагайся! – любезно пригласил ее хозяин. – Спать будешь в кабинете, если ты, конечно, не против. А сейчас будем ужинать! – добавил он. – Ты же наверняка проголодалась, а, Кир?
Кира кивнула. Нет, голодной она не была. Да и вообще – едок из нее еще тот, если честно. В последние годы, оставшись одна, она вообще ничего не готовила – сидела на бутербродах и творожках в пластиковых стаканчиках. Иногда заходила в китайскую лавку неподалеку от дома и брала навынос супчик с пельменями, жидкий и соленый, лапшу с креветками или рис с рыбой. К еде она всегда была равнодушна. Да и есть в одиночестве никогда не любила. Хозяйкой она была средней, если по правде. Но когда была семья, она, конечно, готовила – уж суп и котлеты освоила, будьте любезны.
Правообладателям!
Представленный фрагмент книги размещен по согласованию с распространителем легального контента ООО "ЛитРес" (не более 20% исходного текста). Если вы считаете, что размещение материала нарушает ваши или чьи-либо права, то сообщите нам об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?







