Правообладателям!
Представленный фрагмент книги размещен по согласованию с распространителем легального контента ООО "ЛитРес" (не более 20% исходного текста). Если вы считаете, что размещение материала нарушает ваши или чьи-либо права, то сообщите нам об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?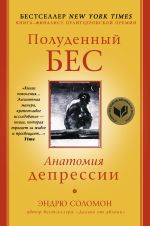
Текст бизнес-книги "Полуденный бес. Анатомия депрессии"
Автор книги: Эндрю Соломон
Раздел: Зарубежная психология, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
За пять дней до окончания поездки я встретился с Фали Нуон, кандидатом на Нобелевскую премию мира, которая основала в Пномпене приют для сирот и женщин в депрессии. Она добилась впечатляющих результатов в реабилитации женщин и с такими психоческим отклонениями, от лечения которых другие врачи просто отказывались. Свидетельством успеха является то, что в ее сиротском приюте работают исключительно спасенные ей женщины; они образовали вокруг нее что-то вроде коммуны милосердия. Кто-то сказал: если вы спасете женщин, они в свою очередь спасут детей, и так образуется цепочка, которая спасет всю страну.
Мы встретились в небольшой комнате старого офисного здания в центре Пномпеня. Она сидела на стуле, я – на маленькой тахте. Казалось, асимметричные глаза Фали Нуон видят тебя насквозь и в то же время излучают доброжелательность. Как большинство камбоджийцев, по западным меркам она довольно миниатюрна. Начавшие седеть волосы зачесаны назад и придают лицу выражение значительности. Она может горячиться, отстаивая свое мнение, но в то же время застенчива, улыбчива и, когда не говорит, смотрит в пол.
Мы начали с ее собственной истории. В начале 1970-х годов Фали Нуон работала секретарем-машинисткой в министерстве финансов и торговой палате. В 1975 году, когда красные кхмеры захватили Пномпень, ее арестовали вместе с мужем и детьми. Мужа сослали, не сообщив ей, куда, она не знала, казнен он или жив. Ее саму с двенадцатилетней дочерью, трехлетним сыном и новорожденным младенцем отправили работать в деревню. Условия были ужасными, еды не хватало, но она трудилась бок о бок с другими несчастными, «ничего им не рассказывая и никогда не улыбаясь, ведь никто из нас не улыбался, потому что мы знали: смерть подстерегает в любую минуту». Через несколько месяцев ее с детьми отправили в другое место. Пока их везли, конвойные привязали ее к дереву и заставили смотреть, как всем скопом изнасиловали и убили ее дочь. Через несколько дней настала очередь Фали Нуон. Вместе с несколькими такими же, как она, ее привезли в поле далеко от населенных мест. Затем ей связали за спиной руки и туго замотали веревкой ноги. Затем поставили на колени и привязали к стволу бамбука, наклонившемуся над жидкой грязью. Чтобы на упасть, она должна была все время напрягать связанные ноги. Мучители хотели, чтобы она, когда совсем выбьется из сил, упадет лицом в грязь и захлебнется ею. Трехлетнего сына привязали рядом с ней, он кричал и плакал, и она понимала, что если упадет, то убьет и своего ребенка.
Фали Нуон солгала. Она сказала, что перед войной работала у одного из высокопоставленных красных кхмеров и была его любовницей, и он разгневается, если узнает, что ее убили. Мало кому удавалось ускользнуть с полей смерти, однако капитан, который, видимо, поверил ее рассказу, вдруг сказал, что не в состоянии больше слышать крики ее сына, а пулю на них тратить жалко. Он развязал Фали Нуон и велел ей бежать. С младенцем в одной руке и трехлетним сыном в другой она спряталась в джунглях северо-востока Камбоджи. В джунглях она прожила три года, четыре месяца и восемнадцать дней. Она никогда не ночевала дважды в одном и том же месте. Она бродила, питаясь листьями и съедобными корешками, но их не всегда удавалось найти, потому что в лесах скрывалось много людей. Страдая от недоедания, она быстро начала слабеть. Пропало грудное молоко, и младенец умер у нее на руках. Она осталась с сыном, и они чудом дотянули до конца войны.
Когда Фали Нуон дошла до этого места, мы оба уже сидели на полу: она плакала, раскачиваясь взад и вперед, а я, стоя на коленях, обнимал ее за плечи, стараясь вывести из транса. Она продолжала говорить едва слышным шепотом. Когда война кончилась, она разыскала мужа. Его тяжко избивали по голове и шее, отчего рассудок его помутился. Фали Нуон с мужем и сыном жили в палаточном лагере на границе с Таиландом, как и тысячи других таких же несчастных. Одни работники лагеря подвергали их физическим и сексуальным издевательствам, другие помогали выжить. Фали Нуон была одной из немногих образованных людей в лагере и, зная языки, могла разговаривать с работниками гуманитарных организаций. Она стала важным человеком в лагере, и ей с семьей выделили деревянную хижину, что казалось роскошью. «Я по-разному помогала людям, – вспоминает она. – Я ходила по лагерю и видела женщин в самом ужасном состоянии. Некоторые казались парализованными, не двигались, не разговаривали, не кормили своих детей и не заботились о них. Я поняла, что, хотя мы выжили во время войны, они погибают от депрессии, не имея сил справиться с посттравматическим стрессом». Фали Нуон послала специальный запрос в гуманитарные организации и устроила в своей хижине что-то вроде психотерапевтического центра.
Поначалу она прибегала к традиционной кхмерской медицине (использующей в разных сочетаниях более сотни лекарственных растений). Если это не помогало или помогало недостаточно, она применяла западные лекарства, которые иногда удавалось заполучить. «Я приберегала любые антидепрессанты, которые приносили сотрудники гуманитарной помощи, – рассказывала она, – стараясь, чтобы хватило на самые тяжелые случаи». Она устроила в хижине буддийское святилище, посадила перед ним цветы и заставляла пациенток медитировать. Она помогала женщинам раскрыться. Поначалу ей требовалось три часа, чтобы разговорить пациентку. Она проводила несколько повторных сеансов, пока наконец женщины не рассказывали всю правду. «Мне нужно было знать то, что им было необходимо рассказать, – объясняет она. – Потому что я хотела понять, что именно они стараются преодолеть».
Когда это было сделано, Фали Нуон выработала стандартную процедуру. «Сначала я учила их забывать. Мы делали упражнения каждый день, чтобы с каждым днем они забывали все больше и больше, пока наконец не забывали совсем. Все это время я развлекала их музыкой, вышиванием или вязанием, концертами, иногда телевизором – чем угодно, что отвлекало и нравилось. Депрессия базируется под кожей, она покрывает все тело, мы не можем выковырнуть ее, но можем попытаться забыть о ней».
«Когда их рассудок освобождался от того, что они забывали, когда они выучивались забывать, я учила их работать. Что бы они ни хотели делать, я учила их этому. Некоторые научились только убирать в доме и присматривать за детьми. Другие приобретали навыки работы с сиротами, причем кое-кто превратился в настоящих профессионалов. Они должны были научиться работать хорошо и гордиться своей работой.
А когда они преуспели в работе, я начала учить их любить. Я сделала пристройку к хижине и устроила там парную баню, теперь в Пномпене у меня есть такая же, правда, чуть лучше. Я водила их в баню, чтобы они чувствовали себя чистыми, учила их делать друг другу маникюр и педикюр, ухаживать за ногтями, потому что это позволяет женщине почувствовать себя красивой, а они так нуждались в том, чтобы чувствовать себя красивыми. Помимо прочего, телесный контакт с другими помогает забыть о своем теле, чтобы заботиться о телах других. Спасая от физиологической изоляции, которая мучила их, это помогало и выходу из изоляции эмоциональной. Вместе моясь и наводя красоту на ногти, они начинали разговаривать друг с другом и мало-помалу они начали доверять друг другу, наконец, учились заводить друзей и переставали быть одинокими. Свои истории, которые раньше они рассказывали только мне, они начали рассказывать новым друзьям».
Позже Фали Нуон показала мне инструменты своей психотерапевтической работы – парную, маленький флакончик лака для ногтей, палочки для удаления кутикулы, щипчики, полотенца. Ухаживать за телом другого – первичная форма социализации приматов, поэтому те же приемы, используемые для социализации людей, показались мне необыкновенно органичными. Я сказал ей, что, по-моему, невероятно трудно научиться забывать самому и научить этому других, научить их трудиться, любить и быть любимыми, а она ответила, что это не так уж трудно, если ты сам умеешь делать эти три вещи. Она рассказала, как женщины, которых она лечила, образовали коммуну, и о том, как хорошо они управляются с сиротами, порученными их заботам.
«Есть и финальная стадия, – проговорила Фили Нуон после долгого молчания. – В конце я научила их самому важному. Тому, что эти три умения – забывать, работать и любить – это не три отдельных навыка, это части огромного целого, и что если делать все эти вещи одновременно, одно как часть другого, все изменится. Убедить в этом было труднее всего, – она рассмеялась, – однако постепенно все они к этому пришли, и тогда… тогда они вернулись в мир».
Сегодня депрессия существует и как личностное, и как общественное явление. Чтобы лечить ее, следует иметь представление о срыве, о том, как действуют лекарства, о самых распространенных методах психотерапии (психоаналитическая, межличностная, когнитивная). Собственный опыт – хороший учитель, основные лекарства уже давно испытаны и неплохо себя зарекомендовали, однако множество иных методов – от лечения зверобоем до нейрохирургии – также сулят хорошие перспективы, хотя шарлатанство в этой области встречается чаще, чем в любой другой области медицины. Вдумчивое лечение требует тщательного изучения особенностей конкретных людей: у депрессии множество вариантов в зависимости от возраста и пола. Злоупотребляющие теми или иными веществами составляют особую обширную категорию. Самоубийство в той или иной форме – это осложнение депрессии, и критически важно осознать, как депрессия переходит в фатальную стадию.
Эти вопросы опыта приводят нас к вопросам эпидемиологии. Депрессию принято рассматривать как современное неудобство, и это огромная ошибка, выявить которую помогает история психиатрии. Принято также считать, что депрессия присуща только среднему классу и дает четкие и понятные проявления. Это не так. Наблюдая депрессию у бедных, мы обнаруживаем предрассудки и табу, не позволяющие нам оказывать помощь населению, которое отчаянно в этом нуждается. Проблема депрессии у бедных приводит нас прямиком к политической специфике. Признанию или непризнанию существования болезни и лечения мы придаем юридическую силу.
Биология – это не судьба, не приговор. Есть способы жить хорошей жизнью при депрессии. Действительно, люди, пережившие депрессию, могут извлечь из этого опыта особые моральные глубины – и это-то станет их крылатой надеждой на дне ящика бедствий. Мы не можем и не должны бежать от некого спектра эмоций, и депрессия расположена там, поблизости не только от грусти, но и от любви. Я действительно верю, что наиболее сильные эмоции всегда расположены рядом, и часто то, что мы считаем противоположностями, неразрывно связано друг с другом. В какой-то момент я научился преодолевать полный упадок сил, вызванный депрессией, но сама по себе депрессия навеки зашифрована в моем мозгу. Она – часть меня. Сражаться с депрессией – значит сражаться с самим собой, важно помнить это перед началом сражения. Я уверен, что преодолеть депрессию можно, лишь активизировав тот самый эмоциональный механизм, который делает нас людьми. Наука и философия не более чем полумеры.
«Стойко терпи: эта боль полезна некогда будет. Горечь нередко несет силу усталым сердцам», – писал Овидий[34]34
Цитата из Овидия взята из книги Кей Джеймисон Night Falls Fast, с. 66.
[Закрыть]. Возможно (хотя временами в это трудно поверить), что химическими манипуляциями мы можем локализовать, контролировать и прекратить циркуляцию страдания в мозгу. Надеюсь, что мы этого никогда не сделаем. Отключить ее – значит сделать наш опыт более плоским, отказаться от сложности, настолько ценной, что это перевешивает боль, причиняемую ее отдельными компонентами. Я ничего не пожалел бы за возможность видеть мир в девяти измерениях. Я скорее согласился бы всегда жить в печали, нежели лишиться способности страдать. Однако страдание – это все же не депрессия. Многие любят и остаются любимыми в страдании, остаются в нем живыми. А вот состояние ходячей смерти, которое приносит депрессия, я бы охотно изгнал из своей жизни. И ради мощного удара по такому состоянию я написал эту книгу.
Глава вторая
Срывы
У меня не было депрессии, пока я не решил большинство моих проблем. Три года назад умерла моя мать, и я уже начал привыкать к этому; я опубликовал первый роман; я прекрасно ладил с родственниками; я выбрался невредимым из мощных двухлетних любовных отношений; я купил красивый новый дом; я писал для The New Yorker. И вот, когда жизнь стала упорядоченной и не осталось причин для переживаний, на мягких кошачьих лапах подкралась депрессия и все испортила. Я остро ощущал, что в моих обстоятельствах поводов для нее нет. Одно дело испытывать депрессию, когда ты пережил травму или вся твоя жизнь представляет собой хаос, и совершенно другое – когда травма уже залечена, а жизнь исполнена стройности и порядка. Это очень стыдно и выбивает из колеи. Тебе, разумеется, известно, что бывают глубокие причины: многолетний экзистенциальный кризис, давно забытые печали далекого детства, вред, когда-то причиненный давно умершим людям, потеря отношений из-за собственной небрежности, горькая правда, что ты не Толстой, отсутствие в этом мире идеальной любви, приступы жадности или неблагородства, которые порой испытываешь, и прочее в том же духе. Однако, перебирая все эти причины, я понял, что депрессия – это состояние моего рассудка, и притом неизлечимое.
С материальной точки зрения моя жизнь совсем не была трудной. Большинство людей в моем положении чувствовали бы себя счастливыми. Мне также случалось переживать и несколько более счастливые времена, и гораздо худшие, по моим, конечно, стандартам, однако просто жизненным спадом случившегося со мной не объяснить. Если бы моя жизнь была более трудной, я по-другому понимал бы мою депрессию. И правда, у меня было вполне счастливое детство с двумя любящими родителями и младшим братом, которого они тоже любили и с которым у меня были хорошие отношения. Семья наша была такой, что я не представлял себе не то что развода, а даже серьезной ссоры между родителями, потому что они очень любили друг друга, и хотя время от времени спорили, это не ставило под сомнение их глубокую преданность друг другу и нам с братом. У нас хватало средств на удобную жизнь. Я не был особо популярной личностью в младшей и средней школе, однако к окончанию школы обзавелся кругом друзей, с которыми был по-настоящему счастлив. Я всегда хорошо учился.
Ребенком я был временами застенчив, опасался быть отвергнутым в той или иной ситуации – но кто не опасался? В старшие школьные годы мне довелось испытать необъяснимые перепады настроений – но, опять-таки, кто их не испытывал в юности? Какое-то время в одиннадцатом классе я был уверен, что здание школы (оно простояло уже более ста лет) непременно обрушится, и я помню, как изо дня в день боролся с этим страхом. Я понимал, что это моя причуда, и испытал облегчение, когда примерно через месяц все прошло.
Затем я поступил в колледж, где был безмерно счастлив и где познакомился с людьми, многие из которых и по сей день мои ближайшие друзья. Я усердно занимался и не менее усердно развлекался, познал множество новых эмоций и расширил свой интеллектуальный кругозор. Иногда, оставшись один, я чувствовал себя в изоляции, при это испытывал не печаль, а страх. Однако друзей было много, я мог пойти к любому из них и легко избавлялся от этого беспокойства. Проблемы возникали время от времени и не приносили особого ущерба. Я решил продолжить образование в Англии и, завершив его, плавно перешел к карьере писателя. Я прожил в Лондоне несколько лет. У меня было много друзей, я пережил несколько любовных союзов. Во многом так обстоит дело и сейчас. У меня была и есть хорошая жизнь, и я благодарен за это судьбе.
Когда тебя постигает большая депрессия, ты оглядываешься назад в поисках ее корней. Ты пытаешься понять, откуда она взялась: жила подспудно с тобой все время или, наоборот, поразила внезапно, словно пищевое отравление. После первого срыва я месяцами пытался припомнить проблемы, приключавшиеся со мной с детства. Я появился на свет ножками вперед, некоторые авторы связывают такое рождение с родовой травмой. Я страдал дислексией, но моя мать очень рано выявила ее и занималась исправлением этого недостатка с моего двухлетнего возраста, поэтому серьезных затруднений дислексия не принесла. Маленьким ребенком я был болтлив и плохо координировал движения. Я спросил мать, какой была самая ранняя моя травма, и она ответила, что я никак не мог научиться ходить, и хотя речь моя развивалась очень быстро, моторика и координация движений давались мне тяжело. Я падал и падал, и только ценой огромных усилий меня удавалось уговорить немного постоять. Неспортивность привела к тому, что меня не очень любили в начальной школе. Дети жестоки, и мне было очень обидно, хотя несколько друзей у меня все-таки имелось, да и я вообще больше любил проводить время со взрослыми, как и они со мной.
О раннем детстве я сохранил множество странных, разрозненных воспоминаний, в основном счастливых. Психоаналитик, которую я как-то посещал, сказала мне, что сама по себе череда светлых ранних воспоминаний подсказывает ей, что, возможно, я пережил сексуальное домогательство. В этом нет ничего невозможного, но сам я не мог ни припомнить ничего такого, ни привлечь какие-либо свидетельства. Если что-то такое и произошло, то, во-видимому, было не слишком серьезным, потому что за мной хорошо смотрели и любой синяк или какое-то другое повреждение обязательно заметили бы. Припоминаю эпизод в детском лагере. Мне было шесть лет, и внезапно меня охватил необъяснимый страх. Я живо помню всю картину: прямо передо мной теннисный корт, направо столовая, а на расстоянии примерно пятидесяти футов большой дуб, под которым мы усаживались, чтобы послушать разные истории. Внезапно я потерял способность двигаться. Меня захлестнуло понимание, что со мной сейчас или позднее должно случиться что-то ужасное, от чего я не смогу освободиться всю жизнь. Жизнь, которая до того казалась мне надежной поверхностью, на которой я твердо стоял, вдруг стала подвижной и мягкой, и я начал проваливаться сквозь нее. Пока я стою на месте, ничего не произойдет, но стоит мне двинуться, и я вновь окажусь в опасности. Очень важным казалось, пойду я налево, направо или прямо, однако я не знал, какое направление окажется спасительным, хотя бы в данный момент. К счастью, подоспел воспитатель и велел мне поторопиться, потому что я опаздывал на плавание; и наваждение рассыпалось, однако я долго помнил его и надеялся, что оно не вернется.
Думаю, все это вовсе не необычно для маленьких детей. Экзистенциальная тревога взрослых, хотя и мучительна, но компенсируется углубленным самоосознанием, в то время как первое понимание хрупкости человеческого существа, понимание того, что все смертны, ранит нестерпимо. Я наблюдал это у своих крестников и племянника. Было бы романтической глупостью заявить, что в июле 1969 года в лагере Грэнд-Лейк я в один прекрасный день понял, что когда-нибудь мне предстоит умереть, однако без всяких видимых причин я наткнулся на понимание, что мои родители не управляют миром и я тоже никогда не буду им управлять. У меня не очень хорошая память, однако после того дня в лагере я стал бояться потерять во времени что-то важное и, лежа по ночам в кровати, припоминал все, что случилось за день, чтобы сохранить его, – вот такое внематериальное скопидомство. Особенно я дорожил родительскими поцелуями на ночь и приучился спать, подложив под голову тряпочку, чтобы, если они попадают с моего лица, собрать их и сохранить навсегда.
В начале старшей школы мне уже было знакого неловкое чувство пола, и это, стоит заметить, стало самой неразрешимой моей загадкой. Это чувство я прятал от самого себя за общительностью и пользовался такой защитой все годы в колледже. Я пережил несколько лет неуверенности, длинную череду связей то с женщинами, то с мужчинами, что очень осложняло мои отношения, в частности с матерью. Время от времени меня охватывала сильная тревога ни о чем конкретном – странная смесь печали и страха, появлявшаяся ниоткуда. Иногда она захлестывала меня, когда я, еще совсем маленький мальчик, ехал в школьном автобусе. Иногда это случалось по вечерам в пятницу в колледже, когда звуки чужого веселья вторгались в уединение и темноту. Это могло произойти, когда я читал, а могло и когда занимался любовью. Оно всегда нападало на меня, когда я куда-то уезжал, и до сих пор является непременным спутником отъезда. Даже если я отправляюсь куда-то на выходные, оно обрушивается на меня, стоит только запереть за собой дверь. И посещает вновь, когда я возвращаюсь домой. Мама, подружка или даже одна из собак бросаются мне навстречу, а мне становится так грустно, что это даже страшно. Я спасался, стараясь как можно больше общаться с людьми, и это позволяло ускользнуть от тоски.
В лето после старшего курса колледжа я испытал небольшой срыв, но тогда я понятия не имел, что это такое. Я путешествовал по Европе, как давно мечтал, и наслаждался свободой. Такой подарок на выпускной сделали мне родители. Я провел восхитительный месяц в Италии, потом отправился во Францию, а оттуда поехал в Марокко навестить друга. Марокко напугало меня. Я сам себе казался слишком свободным от привычных ограничений и все время нервничал, как перед выходом на сцену в школьном спектакле. Я вернулся в Париж, встретил там нескольких друзей, прекрасно провел с ними время и двинулся в Вену, город, который всегда хотел посетить. Я приехал, снял комнату в пансионе и снова повстречал друзей. Мы строили планы вместе поехать в Будапешт. Мы провели великолепный вечер, но, вернувшись в пансион, я не спал всю ночь в ужасе от того, что, как мне казалось, я совершил какую-то ошибку, а какую, я не мог понять. Наутро от волнения за завтраком я не мог куска проглотить, но когда вышел на улицу, почувствовал себя лучше и решил отправиться полюбоваться искусством. Просто перевозбудился накануне, решил я. В тот день мои друзья собирались ужинать с кем-то еще, и когда они сказали мне об этом, я почувствовал, что поражен в самое сердце, как будто меня посвятили в планы убийства. Они согласились встретиться со мной после ужина, чтобы выпить. Ужинать я не смог. Я просто не мог войти в незнакомый ресторан и сделать заказ (хотя до этого я много раз ужинал в ресторанах один), не мог я и представить себе разговор с кем-нибудь. Когда, наконец, я встретил своих друзей, меня шатало. Мы пошли, и я выпил гораздо больше, чем когда-либо, и на время успокоился. Наступила ночь, и я опять не спал, голова раскалывалась от боли, желудок сжимали спазмы, и при этом я неотступно думал о расписании катеров до Будапешта. Я как-то пережил следующий день, но наступила третья бессонная ночь, и я так испугался, что не мог добраться до ванной. Я позвонил родителям. «Мне надо домой», – сказал я им. Они удивились, тем более что перед поездкой я торговался с ними за каждый лишний день и место, стараясь продлить мое пребывание за границей как можно дольше. «Что-то случилось?» – спросили они, но я смог ответить только, что не очень хорошо себя чувствую, да и вообще путешествие оказалось не таким захватывающим, как я ожидал. Мама мне сочувствовала. «Нелегко путешествовать одному, – сказала она. – Я надеялась, что ты найдешь там друзей, но даже если нашел, это все же утомительно». А отец сказал: «Если ты хочешь домой, закажи билет с моей карточки и приезжай».
Я купил билет, упаковал чемодан и в тот же вечер был дома. Родители встречали меня в аэропорту. «Что стряслось?» – спросили они, но я ответил только, что не мог больше там оставаться. В их объятиях я впервые за несколько недель почувствовал себя спокойным. Я заплакал от облегчения. Когда мы вошли в квартиру, в которой я вырос, меня взяла тоска от собственной глупости. Я упустил долгожданное лето путешествий, я вернулся в Нью-Йорк, где мне решительно было нечего делать. Я так и не увидел Будапешта. Я позвонил нескольким друзьям, они страшно удивились, услышав мой голос. Им я даже не пытался объяснить, что случилось. Остаток лета я провел дома. Я скучал, раздражался и придирался к пустякам, хотя частенько мы неплохо проводили время.
В последующие годы я более-менее позабыл обо всем этом. Осенью я поехал учиться в Англию. В новом университете и в новом месте я не испытывал никакой паники. Я легко приобщился к новому образу жизни, быстро завел друзей, хорошо учился. Я полюбил Англию, и казалось, все страхи остались позади. Нервный парень, закончивший колледж в Америке, уступил место другому – здоровому, открытому, легкому в общении. Когда я устраивал вечеринку, все стремились прийти. С близкими друзьями (они и сейчас мне близки) я просиживал ночи напролет в глубоко доверительных разговорах, и это было фантастически приятно. Раз в неделю я звонил домой, и мои родители могли убедиться, что я счастлив, как никогда раньше. Когда мне становилось не по себе, я искал и всегда находил компанию. Два года я был по большей части совершенно счастлив и расстраивался только по поводу плохой погоды, невозможности заставить любого полюбить меня с первого взгляда, недосыпа, а еще от того, что начал лысеть. Единственная депрессивная черта, которая не покидала меня, это ностальгия: в отличие от Эдит Пиаф[35]35
«Non, je ne regret rien» («Нет, я ни о чем не жалею») – слова из популярной песни Эдит Пиаф. – Прим. пер.
[Закрыть] я сожалел обо всем, просто потому что оно кончалось, и даже в возрасте двенадцати лет сокрушался по поводу невозвратного прошлого. Даже в самом прекрасном расположении духа я вечно сражаюсь с настоящим в бесплодной попытке не дать ему стать прошлым.
Первые годы своего третьего десятка я припоминаю как относительно спокойные. Мне пришла блажь сделаться авантюристом и игнорировать тревогу, даже когда она была вызвана действительно пугающими обстоятельствами. Через полтора года после окончания университета я начал ездить в советскую Москву и часть времени жил нелегально, в каком-то нелегальном сквоте с художниками, которых едва знал[36]36
О том, как я жил среди русских, я рассказал в моей первой книге «Железная башня» (The Irony Tower) и в последующих статьях в The New York Times Magazine: «Три дня в августе» (Three days in August, 29 сентября 1991 года), «Художники советского крушения» (Artist of the Soviet wreckage, 20 сентября 1992 года) и «Дерзкий декаданс молодой России» (Young Russia’s defiant decadence, 18 июля 1993 года).
[Закрыть]. Раз ночью в Стамбуле меня попытались ограбить, я оказал сопротивление, и грабитель убежал, так ничего у меня и не взяв. Я позволил себе перепробовать все в сексуальном плане и избавился от большей части связанных с эротикой ограничений и страхов. Я отрастил длинные волосы, потом коротко остригся. Я несколько раз выступал с рок-группами[37]37
Речь идет о рок-группе «Среднерусская возвышенность».
[Закрыть], ходил в оперу. У меня развилась настоящая страсть к приобретению самого разного опыта, и я искал его в самых разных местах, куда только мог позволить себе добраться. Я влюблялся и вил уютные гнездышки.
В августе 1989 года, когда мне исполнилось 25 лет, у матери обнаружили рак яичника, и мой безупречный мир начал рушиться. Если бы она не заболела, вся моя жизнь стала бы иной; если бы не случилось этой трагедии, я, возможно, остался бы склонным к депрессии, но избежал срывов, или срыв случился бы позже, ближе к кризису среднего возраста. А возможно, срыв все равно случился бы в то же самое время. Если первую часть биографии эмоций составляют предшествующие депрессии переживания, то вторую – переживания, запускающие депрессию. Разумеется, многие люди, никогда не страдавшие депрессией, переживали опыт, который ретроспективно можно назвать предшествующим, если бы он привел к депрессии, и который полностью выветрился из памяти, поскольку то, что в нем было заложено, не материализовалось.
Я не стану детально описывать, как именно все вокруг разваливалось на части: тем, кто переживал нарастание болезни, все и так ясно, ну а тем, кого подобное испытание миновало, это покажется таким же необъяснимым, как казалось и мне до 25-летнего возраста. Достаточно сказать, что это было чудовищно. В 1991 году мама умерла. Ей было 58. Горе парализовало меня. Несмотря на много слез и огромную печаль от утраты человека, с которым я был связан так тесно и так долго, первое время после маминой смерти все еще было ничего. Я горевал, я злился, но не сходил с ума.
В то лето я обратился к психоаналитику. Женщине, которая должна была заниматься со мной, я сказал, что смогу начать, только если она мне кое-что обещает, а именно, что доведет сеансы до конца, что бы ни случилось, разве что она серьезно заболеет. Она согласилась. Ей было около семидесяти. Милая и мудрая женщина, она немного напоминала мне мою мать. Я надеялся, что наши ежедневные встречи помогут мне справиться с горем.
В начале 1992 года я влюбился в яркую, красивую, благородную и фантастически преданную нашему союзу особу – но в то же время она была очень трудным человеком. Время от времени наши очень счастливые отношения сотрясали бурные ссоры. Осенью 1992 года она забеременела, затем последовал аборт, оставивший у меня чувство невосполнимой утраты. В конце 1993 года, за неделю до моего 30-летия, мы расстались по обоюдному согласию и с обоюдной болью. Я соскользнул вниз на еще одну ступень.
В марте 1994 года психоаналитик сказала мне, что выходит на пенсию, потому что ездить из Принстона, где она жила, в Нью-Йорк ей стало не под силу. Я и сам уже подумывал прекратить наши сеансы, потому что не ощущал в них прежней потребности, но когда она обрушила на меня эту новость, я неожиданно разрыдался и не мог успокоиться более часа. Вообще-то я не часто плачу, я не плакал со времени смерти матери. Но сейчас я почувствовал себя в высшей степени одиноким, покинутым, преданным. Мы собирались поработать вместе еще несколько месяцев, пока оформляется ее пенсия (она точно не знала, сколько), а получилось более года.
В том же месяце я пожаловался ей, что потеря чувств, вообще всякой чувствительности отравляет мои отношения с людьми. Меня не интересовали ни любовь, ни работа, ни родные, ни друзья. Мои писания замедлились, а потом и вовсе остановились. «Я ничего не знаю, – написал как-то художник Герхард Рихтер. – Ничего не могу делать. Ничего не понимаю. Ничего. И эта полная нищета даже не делает меня особенно несчастным»[38]38
Цитату из Герхарда Рихтера можно найти поэтическом дневнике автора The Daily Practice of Painting, с. 122.
[Закрыть]. Вот так и я почувствовал, что меня оставили все сильные эмоции, кроме одной докучливой тревожности. Я всегда отличался сильным либидо, которое не раз доводило меня до беды, но и оно как будто испарилось. Даже привычная жажда интимной близости исчезла, меня не влекло больше ни к случайным связям, ни к тем, кого я знал и любил. А если возникали эротические обстоятельства, мой мозг немедленно переключался на список вещей, что нужно срочно купить, либо дел, которые нужно срочно сделать. От всего этого мне стало казаться, что я теряю самого себя, и я очень испугался. Я решил, что в мою жизнь стоит внести расписание удовольствий. Всю весну 1994 года я ходил по вечеринкам, где пытался и никак не мог развеселиться, навещал друзей, пытался и не мог общаться с ними, покупал дорогие вещи, о которых давно мечтал, но они совсем меня не радовали. Наконец, чтобы вновь пробудить свое либидо, я решился на крайности, смотрел порнографические фильмы и даже пользовался услугами проституток. И хотя все эти поведенческие отклонения меня особо не пугали, получить удовольствие или хотя бы почувствовать облегчение я так и не сумел. Мы с психоаналитиком обсудили положение и пришли к выводу, что у меня депрессия. Я попытался докопаться до корней проблемы, между тем мое отстранение от жизни медленно, но неуклонно нарастало. Я осознал, как мне досаждают сообщения на автоответчике, возникла фиксация: звонки, часто от друзей, стали казаться мне невыносимой обузой. И всякий раз, когда я перезванивал, поступало еще больше звонков. Я стал бояться водить машину. Если я ехал в темноте, то не видел дороги, у меня пересыхали глаза. Мне все время казалось, что я врежусь в ограждение или в другую машину. Посередине автострады я вдруг переставал понимать, как вести машину. Собрав всю свою волю, я кое-как в холодном поту добирался до обочины. Чтобы не приходилось водить, я начал оставаться на выходные в городе. Мы с психоаналитиком обсудили предысторию моей тревожности. Мне пришло в голову, что отношения мои с возлюбленной прервались, потому что я находился на ранней стадии депрессии, хотя я понимал, что прекращение отношений тоже могло послужить развитию депрессии. Распутывая этот узел, я относил начало депрессии все дальше и дальше во времени: с разрыва отношений, со смерти матери, с начала ее двухлетней болезни, с момента окончания предыдущего романа, с периода полового созревания, с рождения. Очень скоро я уже не представлял себе ни времени, ни своего поведения без определенных симптомов. И все-таки я испытывал аффективную депрессию, для которой характерна тревожная печаль, а не безумие. Все-таки она поддавалась моему контролю, устойчивый вариант того, что я уже когда-то испытывал, нечто, в той или иной степени знакомое всем здоровым людям. Депрессия наступает постепенно, как взросление.
Правообладателям!
Представленный фрагмент книги размещен по согласованию с распространителем легального контента ООО "ЛитРес" (не более 20% исходного текста). Если вы считаете, что размещение материала нарушает ваши или чьи-либо права, то сообщите нам об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?






