Правообладателям!
Представленный фрагмент книги размещен по согласованию с распространителем легального контента ООО "ЛитРес" (не более 20% исходного текста). Если вы считаете, что размещение материала нарушает ваши или чьи-либо права, то сообщите нам об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?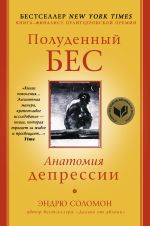
Текст бизнес-книги "Полуденный бес. Анатомия депрессии"
Автор книги: Эндрю Соломон
Раздел: Зарубежная психология, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
Текущая страница: 6 (всего у книги 6 страниц)
Сидеть на крыше не хотелось, однако я понимал, что если не облегчу душу мечтами о самоубийстве, то вскоре взорвусь изнутри и действительно покончу с собой. Я ощущал смертоносные щупальца отчаяния на своих руках и ногах. Скоро они обовьют пальцы, необходимые мне, чтобы принимать таблетки или спустить курок, а когда я умру, останется только их движение. Я знал, что голос разума («Ради всего святого, спустись вниз!») это голос разума, и знал, что ради разума отвергну свой собственный внутренний яд, и ощущал какой-то странный отчаянный экстаз от мыслей о конце. Если бы я был одноразовым, словно вчерашняя газета! Я бы выбросил себя на помойку и был бы доволен этим, доволен в могиле, потому что это единственное место, способное доставить мне удовольствие.
Только понимание того, что депрессия плаксива и смешна, помогло мне слезть с крыши. А еще мысль об отце, который столько для меня сделал. Я не мог заставить себя поверить, что кто-то любит мня настолько сильно, чтобы заметить потерю, однако понимал, как он расстроится от того, что напрасно потратил столько сил, чтобы меня спасти. А еще я вспомнил, что обещал, когда придет время, нарезать для него бараньи отбивные, а я всегда гордился тем, что держу слово. И вот это в конце концов заставило меня спуститься. Около шести утра, промокший от пота и росы, с поднимающейся температурой, я вернулся в свою квартиру. Я уже не хотел умереть, но и жить тоже не хотел.
То, что нас спасает, часто тривиально до монументальности. Первое – это собственное пространство; убить себя – значит открыть всем свое несчастье. Один знаменитый, блестящий, красивый, счастливо женатый человек, чьи портреты девицы вешали над кроватью, рассказал мне, что пережил жестокую депрессию и всерьез обдумывал самоубийство. «Меня спасло тщеславие, – честно признался он. – Я не мог представить себе, что люди станут говорить, что я не преуспел или не справился с успехом, и станут смеяться надо мной». Депрессия очень распространена среди известных и успешных людей. Мир портится, и перфекционисты впадают в депрессию. Депрессия снижает самооценку, но у многих не уничтожает гордость, а она, насколько мне известно, помогает бороться. Когда ты опускаешься настолько, что любовь кажется бессмысленной, тщеславие и чувство долга могут прийти на помощь.
Своей старой приятельнице я позвонил только через два дня после эпизода на крыше, и она отругала меня, что я разбудил ее и пропал. Пока она ворчала, я чувствовал подавляющую меня странность моей жизни и понимал, что не смогу ничего объяснить. Страдая от температуры и страха, я ничего не сказал. Больше она со мной не разговаривала. Я могу охарактеризовать ее как человека, который слишком ценит нормальность, а я стал для нее слишком «особенным». Депрессия тяжела для друзей. Ты предъявляешь к ним непомерные с общепринятой точки зрения требования, которым они из-за незнания, недостатка гибкости либо нежелания не могут соответствовать. Хорошо, если найдется кто-то, кто удивит тебя способностью подстроиться. Ты общаешься, как можешь. Постепенно я научился принимать людей такими, какие они есть. Кто-то из друзей выдержит лицом к лицу с депрессией, а кто-то нет. Большинству не нравятся чужие несчастья. Немногие в состоянии смириться с тем, что депрессия разводит вас с миром; большинство предпочитают думать, что если вы страдаете, это страдание имеет разумные причины и логичное разрешение.
Изрядное количество моих друзей отличается легким безумием. Мои откровения многие воспринимали как приглашение пооткровенничать самим, и с ними мне привелось достичь полного взаимопонимания, как бывает у старых школьных товарищей или бывших любовников, взаимопонимания, основанного на глубоком знании друг друга. С теми же, кто слишком здоров, я стараюсь вести себя осторожно. Депрессия сама по себе деструктивна, и она подталкивает к разрушению: я очень легко разочаровываюсь в людях, которые этого не понимают, и, наверное, делаю ошибку, отталкивая тех, кто меня огорчил. После каждого эпизода депрессии приходится устраивать «генеральную уборку». Я вспоминаю, что люблю друзей, с которыми расстался. Я пытаюсь вернуть упущенное. После каждого эпизода депрессии приходится склеивать яичную скорлупу и заливать молоко обратно в пакеты.
Весной 1995 года продолжалась последняя стадия моего психоанализа. Моя аналитик уходила на пенсию поэтапно, и хотя я не хотел потерять ее, процесс постепенно становился для меня все более мучительным – как болячку отковыривать по частям. Казалось, что мамино умирание все длится и длится. В конце концов я сам прекратил сеансы: в один прекрасный день я все очень ясно понял и сказал ей, что больше не приду.
Во время психоанализа я в деталях изучил свое прошлое. Я пришел к выводу, что моя мать также страдала депрессией. Я вспомнил, как она рассказывала мне, что, будучи единственным ребенком в семье, чувствовала себя одинокой. Взрослой она была очень раздражительной. От неконтролируемой тоски она защищалась прагматизмом. Действовало это только отчасти. Я уверен, что она удерживала себя от срыва, строго регулируя и регламентируя свою жизнь; она была женщиной поразительной самодисциплины. Я понимаю сейчас, что ее пресловутая страсть к порядку была порождением боли, которой она брезговала и которую прятала глубоко внутри. Я прочувствовал страдание, которое она переносила, – какой была бы ее жизнь, наша жизнь, если бы в мои детские годы существовал прозак? Конечно, хотелось бы иметь хорошее лекарство с меньшими побочными эффектами, однако я благодарю судьбу за то, что мне довелось жить в эпоху решения проблем, а не игнорирования их. Какой мудрой приходилось быть моей матери, чтобы справляться с тем, с чем мне уже не пришлось, а проживи она чуть дольше, не пришлось бы и ей. Как больно об этом думать! Часто я гадал, что бы она сказала о моей депрессии, узнала ли бы она ее, стали ли бы мы ближе при своем коллапсе? Но, поскольку во многом ее смерть и стала причиной моей катастрофы, я об этом не узнаю никогда. У меня не было вопросов, пока я не потерял человека, которому хотел их задать. Но так или иначе, моя мать – пример человека, в жизни которого всегда присутствовала печаль.
Решив перестать принимать лекарства, я резко отказался от них. Я знал, что это глупо, но отчаянно хотел прекратить лечение. Мне казалось, что тогда я сумею выяснить, кто же я такой. Но это оказалось неверной тактикой. Во-первых, я никогда раньше не испытывал ничего похожего на то, что проиходит, когда перестаешь принимать ксанакс: я не мог толком спать, я чувствовал тревожность и странную робость. Кроме того, я чувствовал себя так, словно выпил накануне галлон дешевого коньяка. Глаза болели, желудок расстраивался, возможно, из-за того, что я перестал принимать паксил (Paxil). Ночью, не в состоянии полноценно уснуть, я мучился кошмарами и просыпался с колотящимся сердцем. Психофармаколог много раз предупреждал меня, что, если я решу отказаться от лекарств, делать это следует постепенно и под наблюдением, но решение пришло ко мне внезапно, и я боялся потерять кураж.
Я понемногу превращался в себя прежнего, но прошедший год был таким тяжелым и так меня измучил, что, хотя я уже начал нормально функционировать, я вдруг понял, что не могу продолжать жить. Это было не иррациональное чувство, как ужас, я совсем не чувствовал гнева. Напротив, я ощущал это как нечто вполне осмысленное. Я уже достаточно прожил на свете и хотел только придумать, как положить этому конец, причинив как можно меньше вреда окружающим. Нужно было что-то предъявить людям, чтобы они поняли глубину моего отчаяния. Нужно было отринуть невидимое увечье, чтобы предъявить реальное. В мозгу все время блуждала мысль, что такое специфическое поведение я избрал вследствие своего невроза, однако подобная жажда избавиться от себя весьма характерна для ажитированной депрессии. Мне необходимо было заболеть, это дало бы мне избавление. Стремление получить зримую болезнь, как я узнал позже, свойственна многим страдающим депрессией, и многие наносят себе увечья, чтобы их физическое состояние соответствовало психическому. Я знал, что мое самоубийство причинит горе моим родным и опечалит друзей, но думал, они поймут, что у меня не было выбора.
Нарочно заболеть раком, или рассеянным склерозом, или иной смертельной болезнью я не мог, но точно знал, как заразиться СПИДом, и решил сделать это. В Лондоне в темном парке далеко за полночь ко мне подошел коренастый коротышка в роговых очках и предложил мне себя. Он стащил брюки и наклонился. Я принялся за дело. Мне казалось, что все это происходит не со мной. Я слышал, как свалились его очки, но думал только об одном: скоро я умру и никогда не стану таким старым и печальным, как этот человек. Голос в моем мозгу говорил, что я уже начал этот процесс и скоро умру, и я почувствовал огромное облегчение. Я пытался понять, зачем живет этот человек, почему он встает утром, что-то делает весь день и приходит сюда ночью. Была весна, луна была во второй четверти.
Я вовсе не собирался медленно умирать от СПИДа; я намеревался покончить с собой, считая, что положение ВИЧ-инфицированного дает мне на это право. Дома меня охватил страх, я позвонил другу и рассказал ему о том, что сделал. Он дал мне выговориться, и я лег спать. Утром я проснулся и почувствовал себя так, как я чувствовал себя в первый день в колледже, или в летнем лагере, или на новой работе. Началась следующая фаза моей жизни. Отведав запретного плода, я решил сварить из него варенье. Конец уже близок. У меня появилась новая цель. Депрессия бесцельности миновала. В следующие три месяца я искал аналогичных приключений с незнакомыми людьми, которые, как я считал, могут быть носителями инфекции, подвергая себя все большему риску. Мне было жаль, что никакого удовольствия от этих сексуальных контактов я не испытываю, но я был слишком поглощен моим замыслом, чтобы завидовать тем, кто его испытывает. Я никогда не спрашивал, как зовут этих людей, и уж тем более не ходил к ним домой и не приглашал к себе. Каждую неделю, обычно по средам, я отправлялся в проверенное место, где за недорого мог вступить в связь и заразиться.
Тем временем мною овладели типичные симптомы ажитированной депрессии. Тревожность доходила до чудовищного уровня – я был полон ненависти, чувства вины и отвращения к себе. Никогда в жизни я так остро не чувствовал бренности жизни. Я плохо спал, стал невероятно раздражителен. Я порвал отношения по крайней мере с шестью друзьями, в том числе и с человеком, которого, как я тогда думал, я любил. Я повадился бросать трубку, как только кто-то говорил мне что-то неприятное. Я ругал всех подряд. Я не мог уснуть, потому что мой мозг судорожно перебирал самые ничтожные обиды, которые я когда-либо испытал и которые теперь казались мне непростительными. Я ни на чем не мог сосредоточиться: обычно летом я много читаю, но в то лето я не был в состоянии прочитать даже журнал. Чтобы чем-то себя занять и отвлечься, я начал каждую бессонную ночь стирать белье. Стоило меня укусить комару, как я расчесывал укус до крови, и так грыз ногти, что пальцы тоже начинали кровоточить; все мое тело покрывали царапины и раны, хотя я ни разу ничем не порезался. Все это так сильно отличалось от растительного существования во время срыва, и до меня никак не доходило, что я страдаю той же самой болезнью, какой страдал и раньше.
И вот в начале октября, после привычного неприятного сексуального опыта – на этот раз с пареньком, который потащился за мной в отель и даже пытался протиснуться в лифт, – я вдруг понял, что, возможно, заражаю других, а это вовсе не входило в мои планы. Меня охватил ужас: вдруг я уже передал кому-нибудь болезнь? Я ведь хотел убить себя, а не весь остальной мир. Я заражал себя вот уже четыре месяца; у меня было около пятнадцати контактов и, пока я не начал раздавать болезнь направо и налево, пора было остановиться. Понимание, что я умру, заставило мою депрессию отступить и даже каким-то парадоксальным образом уменьшило желание умереть. Я оставил этот период жизни позади. Я снова стал вежливым. На мой 32-й день рождения я пригласил много друзей, улыбался, зная, что это последний день рождения, потому что я скоро умру. Отмечать было утомительно, подарки я даже не разворачивал. И все время подсчитывал, сколько осталось ждать. Я пометил дату в марте, когда истекут шесть месяцев после последнего контакта и можно будет сдать анализ и получить подтверждение. И все это время я нормально функционировал.
Я удачно работал над несколькими писательскими проектами, организовал два семейных праздника – День благодарения и Рождество – и расчувствовался по поводу последних в жизни праздников. Через несколько недель после Нового года я поведал подробности моего последнего совокупления одному приятелю, эксперту по ВИЧ, и он сказал, что я вполне могу оказаться здоровым. Поначалу я был совершенно ошеломлен, но ажитированная депрессия, которая и подвигла меня на такое поведение, постепенно пошла на спад. Я не считаю свои эксперименты с попыткой заразиться СПИДом искупительной жертвой, просто время исцелило мое больное мышление, которое привело к подобным эксцессам. Депрессия нападает на вас стремительно, ураганом, а отступает медленно и постепенно. Мой первый срыв закончился.
Для депрессии характерно быть уверенным в собственной нормальности и внутренней логике, хотя налицо несомненная ненормальность. Об этом говорится в каждой истории, помещенной в книге, с этим я все время сталкиваюсь. Однако форма нормальности каждого человека уникальна: видимо, нормальность гораздо более присуща человеку, чем необычность. Мой знакомый издатель, Билл Штайн, происходит из семьи, в которой часто встречаются и депрессия, и травма. Его отец, родившийся евреем в Германии, уехал из Баварии по бизнес-визе в начале 1938 года. Его дедушку и бабушку в ночь хрустальных ножей, в ноябре 1938 года, выгнали из дома; их самих не арестовали, но они стали свидетелями того, как множество их друзей и соседей отправили в Дахау. Быть евреем в нацистской Германии – страшная травма, и бабушка Билли впала в шестинедельное отчаяние, которое завершилось самоубийством на Рождество. На следующей неделе были готовы выездные визы, но дедушке Билла пришлось эмигрировать одному.
Родители Билла поженились в 1939 году в Стокгольме, потом перебрались в Бразилию и в конце концов осели в США. Отец до сих пор не желает говорить о том времени; «немецкого периода, – цитирует его Билл, – просто не было». Супруги жили на привлекательной улице в процветающем пригороде и словно бы в колпаке нереальности. Возможно, именно вследствие отвергания прошлого отец Билла в 57 лет пережил тяжелый срыв и в течение следующих 30 лет, до самой своей смерти, испытывал регулярные рецидивы. Точно такую же депрессию унаследовал от него сын. Первый его срыв случился, когда ему исполнилось пять, и в дальнейшем он регулярно распадался на части, а самая тяжелая депрессия постигла его, когда он учился в шестом классе, и продолжалась до окончания десятого.
Внимание! Это ознакомительный фрагмент книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента ООО "ЛитРес".Правообладателям!
Представленный фрагмент книги размещен по согласованию с распространителем легального контента ООО "ЛитРес" (не более 20% исходного текста). Если вы считаете, что размещение материала нарушает ваши или чьи-либо права, то сообщите нам об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?






